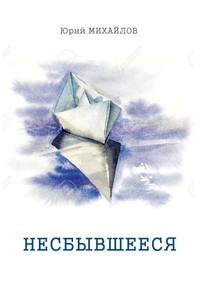Полная версия
Плачущие человечки (сборник)
– А я хочу с дедушкой, – сказал мальчик с нотками упрямства в голосе.
– Что это ты, сынок? – Дед выразил недовольство поведением внука. – Просят тебя… Это же мама.
– А почему он сынком зовётся? – это опять встряла бабушка.
– Я хочу быть с тобой, дедушка! – Вовка понял, чего не мог так долго сказать дед: его, как сына, хотят оставить здесь, навсегда. «Ну уж фигушки!» – подумал мальчик и демонстративно засунул руки в карманы брюк. Он всегда так делал, когда чувствовал несправедливость взрослых по отношению к нему.
– Пожалуйста, Владимир, сядь рядом со мной! – ледяным голосом сказала мама.
– Нет… Нет! Я хочу быть с дедушкой! Всегда!! – Мальчик, сам того не ожидая, разревелся. Он смотрел на мать, в – глазах ненависть. – Ты – предательница! Ты, ты забыла папу. Ты бросила меня! Да, я всё знаю! Всё…
И, не медля ни секунды, Вовка побежал из квартиры. Ожидая ещё гостей, двери не закрыли на многочисленные замки.
Он легко выбрался с третьего этажа по пожарной лестнице и прямиком направился к чёрной «Волге». До самых стёкол машину покрывал густой серый налёт из дорожной пыли. Мальчик вытер слёзы и стал пальцами рисовать человечков с большими головами, маленькими туловищами и раскинутыми в стороны руками и ногами. За несколько минут их получилось около десятка…
Все человечки плакали.
5. Сталкер
Володька попросил Пашку об одном: при дедушке о Сталкере – ни слова. Сосед по парте, конечно, поинтересовался причиной запрета.
– Дед был в Чернобыле… Так всё тяжело для него. А здесь мутанты, монстры. Последствия радиации, в общем.
Так и договорились: играли только в Пашкином доме. Жуткая, мистическая игра! Сталкер мог сделать что-то ужасное с людьми. Вовка не выдерживал игру до конца: всё время казнённым представлялся дедушка…
А генерал грустил, чаще обычного, по два раза в неделю, ходил на могилу бабы Люды. Володю брал с собой только по воскресеньям, молча сидели на скамейке за общей оградой, несколько раз он говорил:
– Помни, сынок, вот это место рядом с бабой Людой – для меня. Я всё указал в завещании, но мой брат старше меня… Поэтому ты держи на контроле мою просьбу.
– Дедушка, ну чо ты всё о смерти да о смерти? Ты же сам всё время говоришь: «Будем жить!»
– А я – не отказываюсь… Ты уже большой, всё понимаешь. С тобой я проживаю третью жизнь. И я так счастлив! Так благодарю судьбу за то, что ты уговорил маму не трогать нас до конца учебного года.
– А ты точно поедешь со мной в Прагу?
– Точно… Я обязан привезти тебя к маме, в её новую семью. Ни один суд не даст мне право опекунства над тобой. Советовался я с прокурором, моим товарищем. Он всё точно доложил. Проиграл я на всех фронтах…
– Будем жить с тобой за границей. Отделим полдома, поставим ринг, Златка подрастёт, будем её тренировать. Разве это плохо? А, дедушка? Можно же так сделать? – Володька, независимо от себя, начинал реветь, украдкой, тихонько, чтобы не расстраивать деда.
– Подойди ко мне, Володя, – сказал как-то после школы дед Савва. Он поставил мальчика перед собой, положил мелко дрожащие руки на плечи, продолжил:
– На этом свете мне уже ничего не осталось ждать. А у тебя будет семья, ты привыкнешь со временем к маме, сестрёнке Злате, новому папе…
– Ну зачем ты так?
– Затем, что ты уже взрослый и понимаешь эти вещи. У каждого человека должна быть семья. Без этого нельзя… Пропадёшь… И мне так спокойнее. Вот завещание. Тебе я завещаю всё свое движимое и недвижимое имущество. Вот банковский вклад на три миллиона рублей. Все генеральские сбережения. Негусто, конечно, но на учёбу тебе хватит. Квартира и дача – всё на тебя записано, но по достижении совершеннолетия. Так что ты у меня – миллионер… Ха-ха-ха-хё-ёх, – смеётся дед.
– Дедушка, а на фига мне всё это?!
– Ты же в капитализме живёшь… Сейчас без денег нельзя! Без денег сейчас – ты ничто, прости меня, за грубость. – Дед не договорил. – Но об этом ты сообразишь, когда закончишь школу, пойдёшь в летное училище. Ты не передумал?
– Нет, конечно, как и папа, в академию имени Юрия Алексеевича Гагарина!
– Вот и хорошо… Это письмо я написал за своей подписью и печатью, как старый командующий. Если тебе будет невыносимо в жизни, ты прочитай его и реши: кому из военачальников передать. Я прошу не бросать на произвол судьбы сына Героя России…
Дед, запрокинув голову, долго дышал, не глядя на внука.
Потом вдруг спросил:
– А что за игра у вас с Пашей, на веранде вы сражались, пока я спал в кресле?
– Да, это про Сталкера… Мутанты там, лесные люди, почти дикари.
– Там и Чернобыль вспоминается? И о реке Припять вы говорили?
– Да, всякая чушь…
– Нет, сынок, это не чушь. Это тысячи облучённых жителей города и солдатиков, которых я бросил на реактор. Это медленная бесконечная смерть…
* * *Год в школе Володя закончил почти на отлично. За несколько дней они упаковали с дедом вещи, собрались лететь в Прагу. И вдруг появляется заграничный папа. Он поблагодарил на ломаном русском языке дедушку Савву, объявил, что, с учётом возраста и дороговизны перелёта, тому не надо лететь. Да и внуку так спокойнее.
– Резать так резать! – сказал он. – Вы – человек военный, должны понять…
На удивление, Владимир молчал: не плакал, не капризничал, замкнулся и ни слова не проронил до самого прощания с дедушкой. Они ушли к реке, около часа ходили по берегу, крепко держась за руки. Счётчик таксист выключил, получив от генерала двойную стоимость дороги в аэропорт.
– Ты всё понял? – спросил дед, целуя внука.
– Я буду писать тебе письма… Передавай привет бабе Люде.
– Прощай! Ты настоящий сын…
* * *Владимир, Володя – Белая головушка больше никогда не увидит деда.
Генерал застрелился ночью.
Поздние соловьи
Сына, родившегося в семье Василия Колышкина, героя войны, вернувшегося зимой 45-го домой инвалидом первой группы, назвали Вадимом. До него в семье уже было четверо ребят. И вот – дитя Победы. Он оказался здоровым пацаном, который рос как и все мальчишки многоквартирного муравейника, именуемого в документах общежитием ткацкой фабрики. На четырёх этажах кирпичного дома размещалось порядка семидесяти комнат с общими кухнями, туалетами и умывальниками. Однако была горячая и холодная вода, а в подвале располагалась прачечная с несколькими ваннами и душем. Жили, как говорится, даже с некоторым социальным «комфортом».
Отец
Они идут с отцом по разбитой подводами осенней дороге, как две странные тени. Одна, покрупнее, сгорбившаяся, волочит по грязи ногу, подпирая её самодельной еловой палкой. На отце фуфайка без карманов, обшитая чёрной технической марлей, которая закручивается под коленями и мешает идти. Одежда напоминает брезентовые накидки грузчиков, в которых они, матерясь и сморкаясь, таскают по дощатым настилам тяжеленные мешки.
Отец еле дышит, часто останавливается, на сына не обращает внимания. Вадим то и дело забегает вперёд, старается схватить свободную руку отца, чтобы идти рядом. Не выходит: тот зажал в руке носовой платок, сделанный из выцветшей наволочки и подрубленный по краям грубым швом. Вытирает лоб, одновременно поднимая огромных размеров чёрную драповую фуражку, кажущуюся сыну жуком-плавунцом, вдруг надумавшим взлететь в небо.
– Папа! – запинаясь о палку, вскрикивает сын и падает отцу под ноги. – Па-па… – уже сдавленно, стараясь отползти от падающего на него тела, хрипит мальчик. Отец не смог сгруппироваться, выставить вперёд руки, рухнул на бок, спасая сына. Его безжизненная нога застряла в колесной колее. Они возятся в холодной жиже, один тихо поскуливая, второй – бормоча что-то невнятное и пытаясь нащупать во внутреннем кармане фуфайки лекарство, полученное в аптеке. Инвалидам войны его отпускают бесплатно, но завозят в поселковую больницу крайне редко.
Вадим грязными озябшими руками тащит отца за локоть. Мальчик беспрерывно повторяет: «Папа, папа, давай, подымайся, папа…»
Как Вадим оказался вместе с отцом на этой дороге – мама ли дала его в провожатые или сам напросился, – он не помнил.
Ещё один эпизод застрял в голове у Вадима, но сместился и в пространстве, и во времени. Он до сих пор не смог бы сказать, когда это произошло: до дороги в аптеку или позже. Но это и не важно, он хранил его в памяти и никому не рассказывал, даже родным братьям.
Послевоенные мальчишки курили дешёвые папиросы и сигареты «Пушка», «Прибой», «Север», почти не прячась. Малышня, семи-восьми лет, подражая им, набирала «бычков» – окурков, – уходила в овраг, в который была протянута внушительных размеров труба для водосброса, забиралась внутрь неё и смолила эти окурки. Вадим не отставал от приятелей, и «бычки» собирал, и смолил их, как заправский курильщик. Об этом знал только средний брат, кстати, игравший в футбол и не куривший совсем.
Но он молчал, наверное, стараясь поддержать авторитет младшего брата.
После очередного похода к трубе мальчишки выбирались из оврага не по тропинке, а напрямик, по крутому склону, хватаясь за стойкие кусты полыни и стебли лопуха. Вадим и не заметил, как оказался на кромке оврага и почти носом упёрся в живот отца. Тот стоял подпираясь палкой, не еловой, а аптекарской, светло-жёлтой, с ручкой и резиновым наконечником. Взял сына за руку, повёл к дому. На краю зелёной канавки у футбольного поля отец присел на траву, достал из кармана пиджака кисет, рулончик газеты и протянул всё это хозяйство сыну. Вадим не боялся, он не знал, что такое отцовская порка ремнём.
– Я не хочу, – сказал сын, – уже накурился, – и тяжело вздохнул, показывая, как противно ему после окурков.
Отец умело, не спеша, скрутил самокрутку, прикурил от спички, затянулся. Молчал, снова затянулся, сказал, выпуская дым:
– Надо мать предупредить, что в доме появился новый курильщик. Это плохо, потому что денег не хватает даже на одного курящего. Придётся мне бросать курить, это непросто, я всю жизнь курю, привык… Кашель замучает, доконает он меня, я знаю, пробовал уже не раз бросить эту заразу.
Молчал отец долго, уже погасла самокрутка, он заплевал её, затёр в землю.
– Может, бросишь курить-то, сын, тебе ведь легче, ты, думаю, еще не привык?
– Брошу, – сказал Вадим. – Мне всё равно не нравится. Тошнит, и голова кружится. Брошу, пап…
Он помог отцу подняться с травы, передал ему лёгкую отшлифованную палку, и они пошли, обнявшись, к дому.
… Мать знала о приближающейся смерти мужа. Она отделила в огромной комнате угол, где Вадим спал вместе со старшими братом и сестрой. Мальчик помнил стоны, яркий свет и приход врачей скорой помощи, хруст и сдавленные крики отца, лежащий у перегородки ком желтоватых простыней, насквозь пропитанных кровью. Потом – тишина, сон, кажется, что мгновенный, лучше бы его не было, и голос мамы:
– Сынок, проснись… Папа хочет с тобой проститься… Умирает.
В открытое настежь окно струился молочный свет, неслись трели последних июньских соловьёв. Почему они так надолго задержали свои свадьбы в эту весну, оставалось загадкой. Как и то, что они могли жить и размножаться в хилой рощице из недавно высаженных на склонах оврага лип и тополей, петь рядом с работающей дни и ночи фабрикой.
Мальчик подошёл к широкой железной кровати, где поверх белой простыни лежал худой маленький человек. На тумбочке, рядом, на белом платке выстроились в рядок разноцветные, как в трубке калейдоскопа, награды фронтовика. Было душно, у Вадима кружилась голова, он не мог смотреть на белые холщовые кальсоны и рубашку с длинными рукавами, в которые одели отца. Тот молчал, ничего не говорил, смотрел на Вадима. Он даже руки не мог поднять. Только смотрел и молчал. Сын не знал, что делать, хотел заплакать или спросить: «Как это – умирает?»
Мама погладила голову сына, тихонько подтолкнула к отцу. Вадим наклонился и поцеловал умирающего отца в плечо. Круто развернулся и бросился к маме. Повис на шее, целовал лицо и, как в бреду, повторял:
– Как умирает?! Зачем умирают, мама?! И ты умрёшь, ма-а-ма-а?!..
Она гладила волосы сына, молчала. По щекам текли слёзы. В окно врывались сольные партии маленьких, неказистых с виду птах.
… Дождь на кладбище хорошо запомнился мальчику, мокрый лоб отца, накрытый саваном, в который он ткнулся губами. А потом всё: ни единой картинки об отце не сохранилось в его памяти.
Мама
… Внешне мать спокойно перенесла смерть мужа, на поминках изрядно выпила, пела тоскливо, с подвыванием:
Оха, оха,Бис-с-с Васятки плоха,Куда ни повернис-ся,Кричат «посторонис-ся»…Потом начинала плакать, навзрыд, роняя голову на руки, размазывая слёзы по лицу. Успокоившись и выпив ещё домашней браги, она как-то тупо смотрела на пятерых детей своих, старшему из которых, лётчику, было чуть больше двадцати, младшему – восьмой год. Вадим ушёл с поминок во двор, там его ждали.
– Ну чо, принёс браги? Чо так долго-то? Мать твоя давно забухала, а ты сдох со страху. Хезун маменькин, – орал Петька Молотилов, ученик вспомогательной школы для умственно отсталых детей. Его все звали Дебилом.
– С братом говорил. Вот, он передал вам бутылку и конфет. Сказал, чтобы вы помянули отца.
– Брательник у тебя чо надо. Это не фраер, лётчик… – И заорал во все горло:
Мама, я лётчика люблю,Мама, за лётчика пойду!Лётчик делает посадкиИ гудит – без пересадки!Вот за это я его люблю!Все ржут, но по-хорошему, Вадим это чувствует и гордится своим старшим братом. Бутылка пошла по кругу, пацаны пьют брагу жадными глотками, нехотя отрываясь и закусывая шоколадными конфетами «Буревестник». Всем поровну, всё по-братски. Дошла очередь и до Вадима. Он делает глоток, замирает от приторного, сладковатого вкуса напитка. Потом чувствует спазм в животе, успевает передать бутылку кому-то из пацанов и бежит к забору. Его выворачивает наизнанку. Слышит, как говорят: «Во козёл, всю брагу взбаламутил! Даже пару глотков не смог сделать. Учился бы, гад, у своей матери бухать».
Вадим до сих пор считает, что маму сломали обстоятельства. Она редко напивалась, старалась уходить от угощений, застолий, то одних, то других случаев: свадеб, поминок, бесчисленных дней рождения, происходящих в этом живом муравейнике ежедневно. А мама, будучи безграмотной женщиной, не умевшей кроме того, чтобы расписаться в документе, ни писать, ни читать, слыла хорошим оратором. Последовательно, логично и обстоятельно она говорила про человека такие простые и тёплые слова, без фальши, искренне, что её приглашали на любое семейное торжество. Конечно, все знали, что Серафима Ивановна может сорваться, перебрать свою норму, боялись этого, но не приглашать ее было неприлично.
… В парке культуры и отдыха, цветнике организованного досуга, горожане любили рассаживаться на пологом берегу реки: пили, ели, снова пили, пели песни и даже устраивали коллективные пляски – «Елецкого» или «Семёновну». Ссорились редко, драк практически не было: женщины зорко следили за своими мужьями, предотвращая любые инциденты. Серафима Ивановна угощала подругу Анну Павловну, поминали, царствие ему небесное, отца Вадима. Десятилетний пацан находился неподалеку, катался на самодельной карусели.
Потом он смотрел показательные выступления на водоёме, которые устроили пловцы из сборной города. Месяц назад мощный земснаряд расчистил и углубил русло реки в несколько раз. Любопытные зрители постепенно собрались на берегу, смотрели, даже стали аплодировать победителям заплывов наперегонки. Красиво плавали ребята, молодые, с мощными торсами, длинными гибкими руками. Вадиму очень хотелось стать спортсменом, научиться так же быстро плавать.
– Тонут! Одна утопла!! – орали несколько женщин, бегая по берегу и зовя на помощь мужчин. У Вадима ёкнуло сердце. Он бросился к затону, переполз через кучи песка вперемежку с илистой землёй, которые остались после земснаряда. Краем глаза успел разглядеть, что в двух метрах от берега барахтается тётя Нюра. Матери не видел. Не снимая майки и шаровар, плюхнулся в воду. Так и кружил по водной глади. Его маленькое сердечко цепенело от страха и ужаса.
Увидел наконец, что двое спортсменов кого-то рывками толкают по воде, поддерживая несчастному голову. Вадим отчаянно заработал руками, догнал пловцов, уже вытаскивавших безжизненное тело на берег. Это была… его мама.
Спортсмены делали матери Вадима искусственное дыхание, бюстгальтер сорвали, груди разъехались по бокам, большие, белые, они мешали спасателям работать. Вадим присел на траву рядом с телом, снял майку и постарался прикрыть мамину грудь. Соседи подсовывали плотную скатерть под спину Серафимы Ивановны. Она не реагировала, голова её качалась из стороны в сторону в такт искусственному дыханию.
Вадим закрыл лицо маленькими ладошками, плакал навзрыд. «Всё, всё, конец, – думал он. – Господи, помоги, оживи. Очнись, мама!» – шептал Вадим.
Он не заметил, когда мать задышала. Уже лежа на боку, она издала трубный звук, её обильно вырвало. Запах перегара пополз по всему берегу реки, будто в этом месте мыли старую бочку из-под браги с мёртвыми перебродившими дрожжами. Врач скорой помощи надёрнул на нос маску, а когда Вадим с матерью были в машине, негромко, но внятно сказал:
– Бог любит… – Он посмотрел на Вадима и не стал добавлять слово «пьяниц».
После трагедии в парке Вадим ни разу не видел мать не только выпившей, но даже подносящей рюмку к губам. Она ничего не говорила, не объясняла, просто перестала замечать вино.
Но до самой смерти мамы Вадим не мог простить ей пережитого ужаса. Все годы, больше двадцати лет, Серафима Ивановна чувствовала напряжение в сыне. Она стала бояться его, заискивала перед ним, словно ребёнок. Вадим всё понимал, но ничего не мог с собой поделать. Давал деньги, покупал вещи для матери в командировках, но это не меняло главного: он не мог обнимать и целовать её так, как делал это мальчиком в ночь смерти отца. Когда пели такие поздние соловьи…
Семь буханок чёрного
Валька первым перешёл речку. Трусы и майку держал на голове. Иногда вода доходила до подмышек, щекотала кожу. Давно не стриженный, с густыми русыми волосами, он выглядел старше своих девяти лет. Сейчас он проползёт жёсткую прибрежную осоку, заберётся на старую иву и осмотрит нижнюю часть огромного поля с огурцами, раскинувшегося по всей излучине широкой и неглубокой на плёсе реки. Дело знакомое: он отследит, как сторож на старой совхозной кляче с берданкой в руках объедет ближний к воде участок и удалится за пологий холм.
На всё про всё – полчаса, если сторожа, конечно, никто не задержит по дороге. Тогда счастье подвалило, можно не психовать, даже съесть прямо на поле несколько пупырчатых, нежных и сладковатых на вкус огурцов. «Как же хочется жрать, – думает Валька, – может, сначала самому нарвать огурцов? Нет, подлянка будет…» Он машет синей майкой, его худенькое тело на дереве хорошо видно с противоположного берега. Пацаны, без суеты, почти ровной шеренгой входят в воду, несколько минут – и они на огуречных бороздах. Не вставая в рост, почти ползком передвигаются по полю. У старших в руках мешок на двоих, младшие собирают огурцы в завязанные сверху узлом майки.
Недоглядел Валька, не увидел, как с левой стороны поля, оттуда, где вершина холма и шалаш сторожа, к пацанам мчатся несколько всадников. Они, не разбирая дороги, топча борозды, стремительно приближаются к мальчишкам. В руках у них длинные, с алюминиевой проволокой плётки, двое с палками.
– Атас, пацаны! – заорал фальцетом Борька Головкин, предводитель ватаги. – Тикай, в осоку!!
Поздно… Вальку, успевшего добежать только до приречной дороги, окружили двое всадников, стали стегать плётками. Кони старые и ленивые, но от бега разгорячились, их трудно удержать на месте. Мальчишка увёртывается, лавируя между лошадьми. Но вот точный удар плёткой по спине, и кожа будто треснула, кровь хлынула на поясницу и ноги.
– Дяденьки! За что? Ой, больно… Ой, как боль-но…
Он крутился волчком, умудрялся залезать под брюхо лошадям, но его выталкивали палкой и снова стегали по худенькому и гибкому тельцу. Валька не мог больше сопротивляться, лёг в дорожную пыль и закрыл голову майкой. Из неё выпали три пупырчатых зелёных огурца.
– Ах, вы так, гады! – взвился Борька, остановившийся на секунду в воде и увидевший, что творят совхозные парни с Валькой и двумя другими мальчишками. – Пацаны! Назад! Бейте сволочей! – И вся ватага развернулась, стала шарить руками по дну реки, пытаясь нащупать булыжники. Борька достал складной охотничий нож, подарок отца после окончания седьмого класса, и пошёл на всадников. Деревенские парни опешили: уж больно дурная слава ходила об их соседях, живущих через реку, в городском окраинном посёлочке. Да и многовато их выходило на берег. Бросив палки, деревенские, как бы нехотя, пытаясь изобразить на лицах нежелание связываться с сопляками, потрусили приречной дорогой на холм, к шалашу. Там всё-таки существовала реальная берданка.
… Валька лежал лицом вниз. На спине несколько вздутых шрамов от ударов плётками и бороздки пыли, по которым сбегала кровь, такая алая и яркая, что мальчишки остановились, как вкопанные. Борька первым наклонился над малышом, осторожно поднял его и положил себе на плечо. Мальчик застонал, глаз не открыл, тонкие руки висели как плети.
– Пацаны, берите палки этих козлов… Они ещё ответят нам за всё! Сань и ты, Колька, сымайте шаровары, палки – суйте в штанины… Так, законно получилось, как носилки. Берём Вальку и пошли, я после реки меняю Саньку, ты, Пузырь, – Кольку. А то они без штанов, неудобно по посёлку-то шастать.
Процессия напоминала похоронную, переправились умело и спокойно, на середине реки Вальку специально окунули три раза в воду, смыли кровь и пыль. Он ожил, открыл глаза, лёжа на животе, крутил головой по сторонам, сплёвывал воду. Сказал, больше обращаясь к Борьке:
– Всё нормально, пацаны, сам пойду… А то папка узнает, попадёт как миленькому.
– Лежи! – сказал Борька. – Не дай Бог, заражение крови будет… Чо делать-то тогда?
Дома у Вальки кроме сестрёнки никого не было. Катька, увидев брата, не охала, не кричала, хотя была старше всего на два года. Она метнулась к посуднику у кухонного стола, нашла пузырёк с зелёнкой и вернулась к брату, которого пацаны еле удерживали на самодельном диване.
– Папа говорил: нет йода – мажь зелёнкой… Первое дело от заражения. Лежи тихо, горе моё! Щас, протру маленько.
Она намочила под краном старую чистую наволочку, встряхнула в воздухе и аккуратно положила ткань на спину брату.
– Кать, мы того, пошли, – сказал Борька, – ты только отцу не фукесай. Валька молодец, всех пацанов спас.
Катька на них ноль внимания, вся сосредоточилась на Валентине. Подняла наволочку, стала дешёвой фабричной ватой мазать кровоточащие рубцы. Запуталась, считая, сколько их уместилось на маленькой спине. Одновременно сообщала брату новости:
– Шляешься где ни попадя и не знаешь того, что папа приехал с заработков…
– Как приехал?! – подпрыгнул на соломенном матрасе мальчишка. – А где же он?
– Тебя искал, хотел в баню взять. Сказал, если успеет, пусть идёт прямо в парилку, он предупредит дядю Сашу – банщика…
– Какая, на хрен, баня, Кать? Как картинку разукрасили всего. Мамка точно прибьёт вечером. А всего-то хотел пяток огурчиков домой принести…
– Валь, так чужое всё это! Как можно-то? Я думаю, и от отца тебе попадёт…
– Не, батя не тронет меня, он меня уважает… Я за семью стремлюсь.
– Ой, держите меня, устремитель! Вон, папа мешок хлеба привёз, за работу с ним расплатились. Сказал, что, кроме денег, целых семь буханок чёрного дали!
– Иди ты! – не поверил Валька. Встал с дивана, пошёл к кухонному столу, возле которого стоял солдатский вещевой мешок. С ним отец прошёл весь Ленинградский фронт, полтора года госпиталей, в нём привез пять медалей и орден Красной Звезды, а также книжечку, где записано: такой-то такой-то является инвалидом второй группы. Валька присел на корточки, потрогал зеленоватую парусину, руки ощутили плотные буханки хлеба.
– Кать, умираю, жрать хочу со вчерашнего вечера…
– Подожди чуток, скоро и мама с работы вернётся, и папа дома будет. Хотя папа сказал: Валька придёт – накорми его. Только немножко пусть ест, а то заворот кишок будет…
Мальчик уже не слушал сестру: он умело развязал солдатский узел, завернул края, из мешка глянули головки сразу трёх буханок чёрного хлеба. Запахло ржаной мукой, да такой вкусной, что у Вальки закружилась голова. Он вынул буханку, положил на стол, наклонился и снова завязал мешок. Осторожно взял хлеб обеими руками и понёс, как сокровище, к сестре на диван. Катерина деловито оттирала пальчики от зелёнки.
– Кать, пополам?
– Что ты, шальной, я столько и не съем… Да и ты сразу обожрёшься.
– Нет, Кать, я так хочу есть…
– Да ешь ты, глупый, ешь… Вон папа сказал, что товарищ Сталин провёл денежную реформу. Снизил цены повсюду. Теперь, сказал папа, мы заживём хорошо.