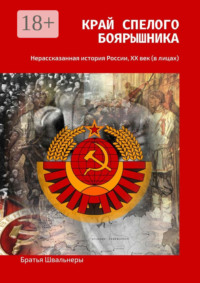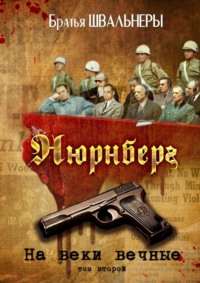Полная версия
#1917: Человек из раньшего времени. Библиотека «Проекта 1917»

#1917: Человек из раньшего времени
Библиотека «Проекта 1917»
Братья Швальнеры
Любимой сестренке Лелечке Борисовой
с самыми светлыми чувствами, которые
только могут зародиться в душе человека
– Сразу видно человека с раньшего времени.
Таких теперь уже нету и скоро совсем не будет.
Монолог Паниковского из романа И. Ильфа и Е. Петрова
«Золотой теленок»
Иллюстратор Братья Швальнеры
© Братья Швальнеры, 2017
© Братья Швальнеры, иллюстрации, 2017
ISBN 978-5-4483-4484-8
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Часть первая «Antea»
Глава первая «Средь шумного бала…»
Антракт. Гудящий коридор,
Как улей, полон гула.
Напрасно классных дам дозор
Скользит чредой сутулой.
Любовь влетает из окна
С кустов ночной сирени,
И в каждой паре глаз весна
Поет романс весенний.
Саша Черный, русский поэт
Санкт-Петербург, 25 февраля 1887 года.
Зима была на исходе – и оттого особенно сильно бесновалась метель, да и морозы стояли порядочные, сравнить которые, пожалуй, можно было только с крещенскими деньками. Почти всю эту неделю погода держалась до минус 25, что вкупе со слякотью северной столицы не давало высунуть носу из отопленных каминами и паровым отоплением светских приемных, согретых голландками городских квартир и освещаемых наскоро разводимыми кострами нищенских трущоб.
Карета неслась по набережной Невы, взрывая клубы нападавшего за один вечер снега, которому, казалось нет конца с самого декабря. В этот день центр города был до крайности оживлен – градоначальник давал ассамблеи, на которые была приглашена вся местная знать (и даже московские гости), что, однако же, не мешало встретить там и тех, кто к знатным особам не принадлежал – это было скорее не церемониальное мероприятие, а народное гулянье, посвященное долгожданному окончанию снежного времени года.
Ближе к губернаторскому дворцу была устроена стоянка экипажей – и собственные кареты князей и надворных советников, и снующие взад-вперед по случаю большого скопления народа (и, как следствие, возможности заработка) извозчики толпились здесь, волей-неволей разделяя праздничное настроение своих пассажиров.
Карета статского советника Дмитрия Афанасьевича Светлицкого прибыла с небольшим опозданием – уже вовсю играла мазурка, зал был набит практически до отказа, когда сам Дмитрий Афанасьевич, его супруга и дочь ступили с подмостка кареты на невысокую, но широкую лестницу, ведущую ко входу в губернаторское жилище. По дороге Дмитрий Афанасьевич остановился и обернулся на дочь – ее долгие сборы стали причиной небольшого опоздания, но сейчас отец поймал себя на мысли о том, что, будь он хозяином сегодняшнего бала, нипочем не сердился бы на нерасторопных гостей; такая красота позволяла простить многое. Он невольно возвратился мыслями в майские дни далекого 1867 года, когда объяснился в любви ее матери. Пожалуй, сейчас Лиза предстала перед ним в образе своей родительницы – и он невольно перевел взгляд на свою супругу – которая была ничуть не менее красивой (во всяком случае, ему так казалось), чем двадцать лет назад. Улыбнувшись и поправив муфту на руках дочери, Дмитрий Афанасьевич продолжил путь по лестнице.
Раздев вновь прибывших гостей, лакей шепнул что-то на ухо шпрехшталмейстеру и тот поспешил в главную залу, чтобы представить семью чиновника остальным собравшимся. Между тем, для самого градоначальника такой необходимости не было – он вышел из своих покоев, увидев, наверняка, карету и ее пассажиров в окно, и дружески приветствовал старого боевого товарища, с которым познакомился еще в период службы, на русско-турецкой войне.
– Князь, – заулыбался градоначальник. Лиза сегодня впервые видела старого товарища своего отца – хотя до этого много о нем слышала. Отсутствие частых встреч в семейном кругу объяснялось сначала службой губернатора в должности министра внутренних дел и его чрезвычайной занятостью – правда, Лиза тогда еще была очень мала, и не придавала этому значения. В 1881 году, после покушения на государя императора, с должности этой он получил отставку, и длительное время жил за границей, как она слышала, в Ницце. И только год тому назад граф Михаил Тариэлович Лорис-Меликов возвратился в столицу Российской империи с тем, чтобы занять пост градоначальника.
Вид хозяина торжества произвел на Лизу завораживающее впечатление – несмотря на возраст, в нем была некая нескрываемая стать, которая была присуща не просто родовитым людям, но людям с высокой степенью внутренней духовной организации и особой культуры. Той самой, старой культуры, принадлежностью к которой в великосветских беседах часто козырял ее отец, добавляя, что «таких людей теперь не делают». Лиза вдруг подумала, что двадцать лет назад этот бравый вояка, должно быть, был очень привлекателен – и теперь убеленное сединами лицо ярко украшала окладистая борода, прежней героической отвагой боевого генерала сверкали карие почти юношеские, глаза, вступая в красивую игру света с форменными эполетами, орденами, украшавшими белый парадный мундир, и вообще со всеобщим окружающим ее сиянием этого светского суаре. Лиза впервые была на столь грандиозном мероприятии, но при виде одного только пожилого градоначальника могла сказать о себе, что почти влюбилась во все, что она видела.
– Граф, безмерно рад видеть… – отец и губернатор обменялись рукопожатиями и обняли друг друга. – Позвольте представить мою семью. Супруга моя, Катерина Ивановна, и дочь, Лиза.
Маменька вежливо подала руку и учтиво улыбнулась, опустив взор, а Лиза – как и подобало – сделала реверанс. Она немного волновалась, и оттого ей казалось, что реверанс вышел несколько неуклюжим, но впрочем на это никто не обратил внимания.
– Две несравненных жемчужины сегодняшнего бала, – не преминул проявить почтение к гостьям армянин – генерал.
– Ну что Вы… – засмущалась маменька. Лиза ничего не ответила – только покраснела пуще прежнего.
– Ну-с, и как Вам первый год в новой должности? – осведомился отец.
– Сложно сказать, мой дорогой. Свои тонкости, и, главным образом, хозяйственные. Признаюсь, служба в министерстве казалась мне куда легче теперешней.
– Отчего же? Я, напротив, придерживался мнения о том, что забот там куда больше, чем в городской управе.
– Там и ясности больше. Здесь – изволите ли видеть – за целую империю службу несешь, за каждое ведомство отвечаешь, а мне в мои годы это уже очень нелегко…
– Полноте, граф. Вам ли жаловаться? Коли уж государь император удостоил Вас этой чести, значит, во всей империи не отыскалось более подходящего кандидата на эту должность.
Лорис-Меликов улыбнулся.
– Великий Вы льстец… Только тем и утешаюсь. Что ж, мазурка, кажется, кончилась. Пора и к гостям.
В сопровождении графа Лиза и Катерина Ивановна прошли в общую залу. При виде несметного количества людей, собравшихся здесь, Лизе, кажется, стало еще хуже. Она, конечно, ждала чего-то подобного, но когда в 16 лет встречаешь такое сборище, то первое, что приходит на ум – это то, что они только на тебя и смотрят (и отчасти это правда; таково уж великосветское общество, что всякую «свежую кровь» изучают тщательно и оттого нещадно). Лиза вжала голову в плечи и опустила глаза – наподобие того, как маленькие дети, в смешных и отчаянных попытках спрятаться, зажмуривают глаза. Папенька и маменька меж тем обходили стоявших вкруг залы гостей, здоровались с кем-то беседовали… Лизе не удавалось уловить ни звука – настолько смущение поглотило ее всю без остатка. Она знала, что поднимать глаза опасно, но не знала, чтобы настолько – при первой встрече с чьим-то взором она конечно же увидела его.
– Лиза? Вы здесь?
Высокий и статный молодой человек, темноволосый и кареглазый, бодро выделился из окружавшей его толпы такой же молодой знати и подошел к ней без малейшего стеснения. От неожиданности она потеряла дар речи. Нет, она конечно знала, что ему как человеку знатного происхождения – он был из семьи дворян, хоть и разорившихся – наверняка полагается быть здесь. И когда ехала сюда, то всю дорогу только и думала, что о нем, и что замечательно было бы его встретить здесь. Нет, лучше бы наоборот не встречаться… Одним словом, этот юный красавец не выходил из ее головы уже очень давно. И она даже приготовила некое подобие монолога для встречи с ним. Но как назло все забыла – как и бывает в подобных случаях.
На звук знакомого голоса обернулся papan.
– Иван Андреич! Рады видеть!
– Сие взаимно, – князь и молодой человек поклонились друг другу.
– Давненько Вы у нас не бывали.
– Завтра же намеревался. Изволите ли видеть, кратковременный недуг не позволял мне вставать с постели всю прошлую неделю – морозы и слякоть в канун весны всегда напоминают моему шаткому здоровью о себе.
– Одевайтесь же теплее, Иван Андреич, – по-матерински заговорила Катерина Ивановна. – Без Вас у Лизоньки совсем скверно обстоят дела с грамматикой.
– Ничего не скверно, – совершенно не к месту влезла в разговор Лизавета.
– Лиза! – возмутился отец. – Что за манеры? И потом – маменька права-с, вчера я беседовал с твоим школьным учителем, он подчеркнул падение твоих успехов в продолжение недели без уроков Ивана Андреича…
Иван Андреевич Бубецкой – студент юридического факультета, хоть и происходил из родовитой семьи симбирских князей, но жил крайне бедно и вынужден был подрабатывать частными уроками. Он преподавал грамматику Лизе Светлицкой, дочери статского советника, за вполне умеренную плату.
– Как о моих успехах может говорить немец, который и по-русски-то едва говорит? – горячо возмутилась Лиза.
Бубецкой улыбнулся.
– Но он учитель, и надлежит к нему прислушиваться. И потом, Лиза, не спорьте – мне как Вашему преподавателю хорошо известны Ваши качества, среди которых присутствует самая чуточка лености.
Он говорил и улыбался, и улыбка его завораживала юную прелестницу. Она то и дело ловила себя на том, что буквально смотрит ему в рот, не в силах отвести глаз, что казалось ей страшно неприличным и за что она себя горько ругала мысленно.
– Так значит, завтра будете?
– Всенепременно.
– Очень будем ждать.
Они снова раскланялись.
– Папенька? – обратилась Лиза.
– Да, мой ангел?
– Если Вы не возражаете, мне бы хотелось немного поговорить с Иваном Андреичем.
– Что ж, если он не возражает, то дело Ваше.
Когда они остались одни, Бубецкой спросил у своей воспитанницы:
– Отчего же Вам мое общество интереснее общества самого градоначальника? Я вижу, они с Вашим папенькой – короткие знакомые, и, как мне кажется, иметь его в друзьях было бы для девушки, начинающей свой жизненный путь, крайне полезно…
– Мне с Вами интереснее… А почему Вы не хотите познакомиться с ним? Если изволите, я попрошу папеньку об одолжении представить Вас графу…
– Нет, увольте. Полагаю, что мы с Михаилом Тариэловичем очень уж по-разному смотрим на одинаковые вещи.
– Что Вы имеете в виду?
– Я имею в виду его политические взгляды. То, что для него благо – для прочих интеллигентных людей смерть.
– Вы, конечно, говорите о его политике по отношению к эсерам? Но как иначе министр внутренних дел должен реагировать на террористов?
– Во-первых, милая Лизонька…
«Он назвал меня милой…» – сердце Лизы сжалось как ребенок сжимается внутри роженицы.
– …не все эсеры – террористы. Во-вторых, он сам своей карательной политикой вызвал события 1 марта 1881 года, когда, как Вам конечно известно, погиб государь император.
– Вы станете оправдывать Гриневицкого?
– Оправдывать его или судить – дело истории, а вот на опрометчивые шаги руководства указывать должен каждый сознательный гражданин. Ну-ка, вспомните некрасовские строки, что мы с Вами недавно повторяли?
– «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан», – улыбнувшись, выполнила Лиза приказ строгого учителя.
– Воот.
– А как же «диктатура сердца»? Ведь Лорис-Меликова не случайно так назвали. Консервативные реформы, учет общественного мнения…
– Вот и именно, что консервативные. Слишком уж консервативные! Прямо скажем, своим консерватизмом отрезающие себе дорогу в будущее! А учет общественного мнения, Вы говорите? Пустое. Если чье мнение и учитывалось – и могло учитываться – то только буржуазии. Кто и когда дал слово рабочим, крестьянам, служащим?
– Помилуйте, Вы призываете к революции в чистом виде. Этого не будет и не может быть при власти царя.
– Почему? На отдельных местах, в отдельных, так сказать, участках, это вполне допустимо и демонстрируется.
– Что именно?
– Учет мнения широких слоев общества, людей, без отсылки к их происхождению и социальной классовости.
– Любопытно… Покажите?
– Непременно. Только вот нынешнему хозяину вечера это нипочем не сделать.
– Вы явно недружелюбно к нему настроены. Почему же?
– Потому что необходимым к тому условием является самопожертвование и готовность в случае чего потерять общественный статус. А он даже после убийства монарха боялся этого как второго пришествия!
– Кто же теперь не боится… – опустила глаза Лизонька. Иван Андреевич посмотрел на нее – в этой обреченности, что сквозила в ее голосе, в этой отрезвляющей грусти слышалось несвойственное детству – а он ее считал ее ребенком, и не без оснований – понимание и знание жизни. С одной стороны, ему хотелось бы, чтобы все рассуждали именно так – здраво, приземленно, логично, со знанием. С другой стороны, подобный образ мыслей – как он полагал – не способен изменить будущего России, поскольку наряду с недостатками общества трактует слабосильность и неспособность каждого его члена что-либо в нем поменять.
– Пойдемте, – он взял ее за руку и повел в соседнюю комнату. Будучи кабинетом хозяина дома, сегодня она выполняла роль своего рода кружка. Здесь собрались те, кто по каким-либо причинам хоть и был приглашен градоначальником, но не образовал его ближний круг. В древние времена эту горстку можно было бы назвать «опала». Будь на то воля Лорис-Меликова, он бы и вовсе не стал звать их на свои ассамблеи. Однако же, все они были при неплохих должностях, и неучтивость по отношению к ним в его исполнении могла быть превратно истолкована.
В кругу таких же юных студентов с горящими глазами, как и Иван Андреич, стоял грузный, пожилой мужчина высокого роста. Его лицо окаймляла седая борода, между пальцев он держал сигару, а из большого, толстого стекла, фужера, потягивал вино.
– Кто это? – прошептала Лиза.
– Анатолий Федорович Кони, обер-прокурор Санкт-Петербургской окружной уголовной судебной палаты. Он читает у меня лекции по уголовному праву, и, строго говоря, если бы не его настояние, я бы вовсе сюда нынче не пришел.
Иван Андреевич с Лизой протиснулись сквозь толпу жадно слушающих Анатолия Федоровича молодых людей. «Надо же, – подумала Лиза. – Ведь в соседнем зале сам Лорис-Меликов, к нему можно и рукой притронуться при желании, и поговорить, а тут – какой-то никому не известный старичок и народу подле себя собрал в разы больше, чем градоначальник и герой войны…»
– Анатолий Федорович? – обратился к нему Бубецкой.
– А, Ваня.
– Позвольте представить Вам мою спутницу, Елизавету Дмитриевну Светлицкую.
– Дочь Дмитрия Афанасьевича, никак? – целуя руку новой знакомой спросил Кони.
– Да-с.
– Как же, как же, имею честь быть знакомым с Вашим папенькой по долгу службы в Санкт-Петербургской судебной палате. Справедливости ради, были бы знакомы и короче, коли я продолжил бы службу по цивилистической направленности…
– Отчего же не продолжили? – все еще плохо понимая, с кем говорит, спросила Лиза, чем повергла присутствующих в гомерический хохот. Анатолий Федорович строго – как это, должно быть, полагается классическим университетским преподавателям – взглянул на смеющихся, откашлялся и не счел за трудность ответить на вопрос.
– Несмешно, господа. Барышня, очевидно, не знает, что я всю свою сознательную жизнь трудился как специалист по уголовному праву и процессу, и потому цивилистика нимало не привлекает меня и не вдохновляет. Только что стараниями министра юстиции, графа Набокова, был я приглашен в департамент гражданских дел, да и то ненадолго.
– Министр, должно быть, не знает, о круге Ваших интересов? – вновь спросила Лиза.
– Да нет, милая. Мы с ним знакомы еще со студенческой скамьи и меня он знает более, чем положено…
Анатолий Федорович опустил глаза, и тут слово взял Бубецкой.
– Набоков, как и вся чопорная интеллигенция, осуждает Анатолия Федоровича за приговор по делу террористки Засулич.
– Это той, что стреляла в московского генерал-губернатора? Как его, в Трепова?
– Именно. Анатолий Федорович председательствовал на том суде и оправдал ее.
– Вы извращаете. Оправдали ее присяжные. Мне в вину общество с той поры ставит, главным образом, то, как я сформулировал опросный лист для присяжных. Отклоняясь от необходимости формального ведения процесса, я включил в него вопросы, касающиеся морально-нравственной оценки обществом поступка Засулич. Как то – вызывал ли Трепов своим поведением реакцию, приводящую к взрыву народного гнева? Можно ли оправдать ее, исходя из его «заслуг»? Насколько хотела она – профессиональная террористка – убить градоначальника, что стреляла ему едва ли не в руку? Насколько тяжелы оказались раны? Ну и тому подобное. Излишним будет говорить, что присяжные, отвечая на мои вопросы, меньше думали о юридической квалификации содеянного – и больше о нравственности. Целью моих вопросов и было призвание их к этому, ведь дача юридических оценок не может и не должна входить в компетенцию простых граждан, коими являются присяжные – она составляет прерогативу профессиональных юристов. Заступая на должность председателя суда, я застал институт присяжных в плачевном состоянии – председательствующий очень часто возлагал на них непосильное юридическое бремя, а я лишь возвратил их к тому исходному состоянию, в котором они и должны пребывать исходя из универсальной законодательной воли.
– И что же было потом?
– Потом состоялся оправдательный вердикт. В ходе рассмотрения дела Набоков с разной периодичностью предлагал мне либо склонить присяжных на сторону обвинения, либо – когда понял, что добиться выполнения первой просьбы от меня невозможно – вынести приговор с ошибками – с тем, чтобы возможно было опротестовать его в апелляционном порядке.
– Почему же Вы отказали ему в первой просьбе? Все-таки он же министр.
– А я – председатель суда! И ответил ему так, что и до сей поры каждое слово помню – «Ваше Превосходительство, ежели председатель московского суда станет подотчетен воле министра, то ни один судья во всей Российской империи не сможет чувствовать себя в безопасности, а потому о беспристрастности и независимости судебной системы как об основе государственного устройства придется позабыть!» Правда, тогда мне это высказывание дорогого стоило – с должности, как видите, сняли, долгие годы мытарств, да и теперь, хоть и возвели в обер-прокурора, а чураются. А меж тем, чураться нечему – я выполнял свой долг. И если бы каждый выполнял его таким образом, жизнь бы выглядела сейчас значительно иной…
Он говорил вполголоса, но в воцарившейся при его словах в кабинете абсолютной тишине слышна была даже каждая запятая. Все слушали его с таким вниманием, и даже Лиза, еще минуту назад с горечью обозначившая невозможность что-либо изменить в положении дел, вдруг поймала себя на мысли о том, что такой образ рассуждений, пожалуй, способен повернуть колесо истории. Правда, дальше ее мысль не зашла, но для шестнадцати лет и это было неплохо.
Меж тем начался котильон – и всем барышням, присутствующим на вечере, надлежало исполнить его в главной зале. Не желая расставаться со своей спутницей, Иван Андреевич последовал за ней и минуту спустя они закружились в залихватском танце, сопровождаемом французской мелодией. Лизе, как и Ивану, не терпелось поскорее окончить его и вернуться к беседе – они были знакомы полгода, но, казалось, в этот вечер в беседе своей настолько открылись друг другу, что конца ей не будет никогда.
Уморившись после танца, они прошли в буфет. Здесь Лиза встретила свою школьную приятельницу – Варю Филонову. Огненно рыжая хохотушка, она не происходила из знатной семьи, и потому оказалась здесь случайно. Во всяком случае, она остановила внимание Лизы.
– Ты чего здесь делаешь?
– Торгую на благотворительном базаре от общества святой Матроны. Кстати, не желаете ли купить что-нибудь?
На лотке вокруг нее были разложены всякие галантерейные штучки, обыкновенно покоряющие сердца светских барышень, но не Лизы – она была к ним равнодушна: куклы, блокнотики, бантики, чайные чашечки не вызывали в ее юном сердце трепета. Когда Иван Андреич отвернулся, чтобы поздороваться с приятелем, Варя набралась смелости и озадачила подругу:
– Кто это?
– А, – Лиза отмахнулась, – мой учитель грамматики.
– Ты танцевала с ним?
– Да, только потому, что прочие здесь присутствующие, не в пример скучнее.
– А мне показалось иначе, – заговорщически улыбнулась Варя.
– Это еще почему? Да ну тебя!
– А ну как если завтра вся школа об этом узнает?
– Покажешь себя дурой, – надулась Лиза.
– Перестань, я шучу. Но мне как своей подруге могла бы и рассказать…
Лиза сменила гнев на милость.
– Вот завтра и расскажу. Он будет давать мне урок, и обещаю тебе приоткрыть завесу тайны. Но только тебе! А сейчас мне пора.
Иван Андреевич этим временем перекинулся парой слов с товарищем по университету, Петром Шевыревым.
– Ты как здесь?
– По приглашению начальника канцелярии по принятию прошений на Высочайшее Имя, – лукаво прошептал Пьер.
– Однако, как далеко все зашло у вас…
– Ты даже не представляешь, насколько. Ну да мне пора, увидимся, как договаривались…
Лиза и Иван Андреевич скрылись в глубине главной залы. Варя смотрела им вслед с плохо скрываемой завистью. Тут мимо нее прошла сама Каменецкая – супруга какого-то видного придворного сановника. Варя вынуждена была отвести взгляд от удаляющейся парочки и поклониться знатной особе. Та, впрочем, прошла мимо нее и остановилась подле Шевырева.
– Пришел-таки?
– Как я мог игнорировать твое приглашение? – с похотливой улыбкой на устах ответил он.
– Льстец… За это и люблю…
– Когда мы увидимся, Marie?
– На будущей неделе.
– Боюсь, не дотерплю… Весна приближается, а кругом столько молоденьких курсисток… – она не заметила, как студент начал жадно целовать ее руку.
– Даже не шути так. В гневе я страшна, – она слегка ударила Пьера веером по носу.
– Прошу, ускорь встречу.
– Я подумаю, мне пора, – бросила она, освобождая длань из плена настойчивого студента.
– И что же? – спросила Лиза, когда они с Иваном Андреевичем уединились у камина.
– Что?
– Вы считаете Анатолия Федоровича законодателем общественного мнения, исходя только из того, что он выполнил свой профессиональный долг так как следует?
– Я считаю, что если каждый будет выполнять профессиональный долг именно как долг, а не как средство зарабатывания веса в общества и уж – упаси Бог – денег, то плачевную ситуацию, царящую в разных сферах общественной жизни, удастся изменить. Разумеется, если это будет возведено в ранг государственной политики!
– Что же должно произойти, чтобы государственная политика отклонилась от намеченного курса и последовала курсу Вашему?
– Ну, во всяком случае, ей следует отказаться от подобных вот «диктаторов сердца». – Иван Андреевич кивнул головой в сторону Лорис-Меликова, который упорно доказывал что-то одному из своих собеседников на глаза десятков гостей. Он был неприятен Бубецкому, и ему даже казалось сейчас, что он нарочито позирует перед собравшимися. «Шут», – подумал юный князь и незаметно для себя поморщился.
Меж тем по залу пронесся шепот. «Чайковский, Чайковский», – по отрывкам окончаний смогла разобрать Лиза. Это имя подействовало на нее магически – так, что она готова была даже прервать политическую дискуссию с диктатором своего сердца.
– Иван Андреевич… Там, кажется…
Незамеченным широкой публикой, в зале появился невысокий сухощавый человек с седой бородой и подчеркнуто стройный. Глаза его излучали грусть и одиночество – такие, какие обычно людям не свойственны и бывают только у людей, страдающих неизлечимым недугом. Присутствующий таким недугом страдал – его тяготило непонимание, презрение общества – нелюбовь, в общем, тех, кто, хоть и сам грешен с головы до пят, а грех другого возведет в религию. Лишь на редкие минуты мог он сломить это общественное сопротивление, когда завладевал умами и душами всех тех, кто корил его за личные качества несколько мгновений назад – когда садился за рояль и исполнял неслыханные по красоте вещи собственного сочинения. И в вещах этих, как и в походке, и во взгляде, и в голосе этого человека сквозила та неистребимая грусть, которую, в силу тяжелейшего давления и веса, можно было уже назвать обреченностью.