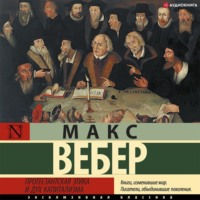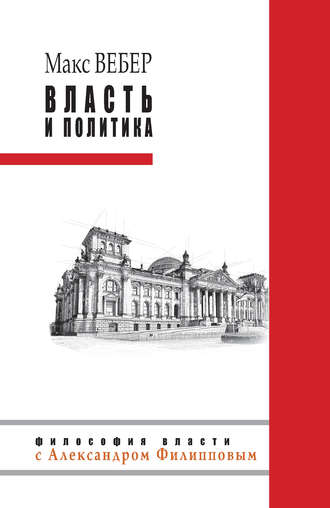
Полная версия
Власть и политика (сборник)
«Экономическая обусловленность» означает действенность факторов, устанавливаемых теоретической национальной экономией. «Влияние идей» – действенность факторов, вскрываемых в историческом исследовании науками о культуре, даже если они ориентированы на познание современности. Фактически Вебер уже довольно рано обосновывал то, что сам же стал позже называть понимающей социологией. Конечно, это далеко не единственная возможная интерпретация идейной эволюции Вебера, как и всей его научной деятельности. Заслуживает отдельного упоминания точка зрения Вильгельма Хенниса: «Дело обстоит вовсе не так, что линия жизни Вебера идет прямо: сначала юрист, потом специалист по национальной экономии и наукам о культуре и, наконец, отец-основатель понимающей социологии»[18]. Хеннис считает, что Вебер намеренно ограничил область своих поздних исследований экономической социологией, потому что в это время его занимал совершенно конкретный исторический вопрос: как возник современный западный рациональный, ориентированный на рентабельность капитализм, а не общие вопросы экономической или социологической теории.
Споры такого рода никогда не завершаются. Дело не только в Вебере, дело в понимании сегодняшних задач социологии, которое позволяет (или не позволяет) относить к ней те или иные сочинения. Нам важно лишь иметь в виду, что взгляды на одни и те же тексты могут быть совершенно различными. В нашем сборнике помещена работа «Основные социологические понятия» – первая глава книги «Хозяйство и общество». Даже краткое изложение ее истории показывает всю сложность правильного ее размещения в контексте трудов Вебера. Первоначально запланированный издательством еще в 1910 г. многотомный опус под редакцией Вебера должен был называться «Handbuch der politischen Oekonomie» («Руководство по политической экономии»); свой раздел Вебер собирался назвать «Социология», причем имел в виду «завершенную социологическую теорию в полном изложении»[19]. При жизни Вебера он не вышел и был далек от готовности для публикации. Большой посмертно изданный том «Хозяйство и общество»[20] вводил и продолжает вводить в заблуждение читателей, которые не придают значения издательским решениям, будучи уверенными в том, что сам текст все равно остается тем же. Но знаменитая книга состоит из сравнительно небольшой и достаточно цельной, хотя и не завершенной первой части, которая была написана Вебером в самый последний период жизни (она открывается главой «Основные социологические понятия»), а также большого объема куда более ранних глав, которые современные издатели Вебера считают первоначальной версией книги[21]. Вебер не просто написал начальные главы в последнюю очередь, он начал заново писать всю книгу, отчего у читателя возникает то ощущение повтора (так, например, в первом полутоме есть глава «Типы господства», а во втором – «Социология господства»), то недоумение насчет основного категориального аппарата (о чем еще немного будет сказано ниже). Конечно, всякий раз – за исключением отдельных случаев вторжения издателя в саму плоть текста – это все равно тот же самый Вебер. Однако, осмысливая его концепцию власти, мы сталкиваемся, как теперь видно, не только с тем, что Вебер лишь постепенно пришел к отчетливо социологической постановке вопроса и основным понятиям социологии, но и с эволюцией его подхода к самим этим понятиям. Кроме того, он практически одновременно писал теоретико-социологические работы, тексты по исторической социологии и социальной экономике, политические работы более научного содержания и публицистику. Поскольку посмертные издания, за исключением новейшего полного собрания сочинений, широко используются, все это сильно затрудняет чтение, а попытки вычленить отдельные путеводные нити, основные интриги в его аргументах, не могут не грешить односторонностью. И все-таки мы исходим из того, что многие важные идеи, содержащиеся в его политических работах, можно понять, только если обратиться к теоретической социологии и хотя бы отчасти разобраться в том, что такое для него понимание.
III
Именно понимание особого рода – истолковывающее – отсутствовало в программе наук о культуре Риккерта. Из современников Вебера ближе всего к адекватной трактовке понимания подошел, видимо, Георг Зиммель во втором издании своей книги «Проблемы философии истории»[22]. Несмотря на то что позже Вебер во многом не соглашался с Зиммелем[23], он признавал его большой вклад в формирование той специфической версии социологии, которая у самого Вебера вырастала из общей проблематики национальной экономии, наук о действии и наук о культуре. Зиммель показал возможность непсихологической трактовки понимания, его рассуждения имели силу и для истории, и для социологии. Вебер связал «истолковывающее понимание» с методологией идеальных типов и соединил понимание и объяснение, что во многом обусловило продуктивность его работы как социолога.
Истолковывающее понимание, о котором Вебер говорит, определяя задачи социологии, в «Основных социологических понятиях», предполагает, конечно, «актуальное понимание», или, возможно, сопереживание тому, что, как нам кажется, движет людьми, действия которых мы хотим объяснить. Но истолкование означает не углубление в их психическую жизнь, не вчувствование, а исследование смысла совершаемых ими действий. Как это возможно? О методе понимающей социологии написано очень много, а между тем мы не можем сказать, что существует набор методических предписаний, следование которым обеспечит нам успех, сопоставимый с научными результатами Вебера. Напротив, интерпретации, критика, переосмысление веберовского подхода служат, кажется, дурную службу тем, кто хотел бы почерпнуть у классика внятные инструкции. Есть, однако, несколько важных моментов, уяснение которых именно по Веберу позволяет, так сказать, зайти на территорию понимающей (или интерпретативной, как ее любят называть в англоязычных странах) социологии, чтобы там уже принимать собственные решения, основываясь на богатом опыте предшественников и обширной критической литературе. Итак, прежде всего – повторим еще раз – речь идет о понимании смысла действий, а не о понимании действующего. Разница здесь огромная. Понять человека значит разобраться в его душевной жизни. Понять смысл действия – значит разобраться в одном из ее событий, имеющих, как правило, некоторое внешнее продолжение. Мы понимаем смысл действия и предполагаем, что действующий связывал со своим поведением примерно такой же смысл. Иначе говоря, мы исходим из того, что поведение может быть осмысленным и неосмысленным (например, как говорит Вебер, чисто реактивным и почти автоматическим). Но если с ним связан субъективный смысл, оно становится действием. Почему речь идет о субъективном смысле? Потому что объективный смысл – это нечто совсем иное. Если автомобилист нарушит правила, не заметив сигнала светофора, по объективному смыслу его действие будет нарушением, а по субъективному, пока он не понял, что натворил, не будет. Но если автомобилист сознательно нарушает правила, например, торопясь или демонстративно, его действие будет иметь соответствующий субъективный смысл. Ближайшее пояснение напрашивается само собой: Вебер как юрист знал, что такое вменение намерения. Одно и то же преступление, совершенное намеренно или по ошибке, заслуживает разного наказания. Объективный и субъективный смыслы могут решительно не совпадать и в других случаях, не имеющих криминальной окраски. Например, намерение добиться результата не перестает быть рациональным, даже если в основу конкретных действий положены объективно ошибочные данные, делающие для сведущего наблюдателя весь процесс решения и планирования бессмысленным. Но социология, говорит Вебер, – не нормативная наука, она не станет объявлять действие бессмысленным, если оно противоречит объективному смыслу или достигает на деле иных результатов, чем те, что поставил себе целью действующий. Поэтому мы должны понять именно субъективный смысл, т. е. тот мотив, который действие имело для действующего. Это позволит нам соединить понимание с объяснением, потому что мотив действия – это его субъективная причина, а как ученые мы должны находить именно каузальные отношения. Таким образом, получается, что никакого противоречия между пониманием и объяснением, между науками о культуре и науками о природе нет. Они все подпадают под общее, рациональное понимание научности. Однако у социологии есть своя специфика, тем более примечательная, что социология готова изучать повторяющиеся события, регулярности. Но статистически исчисляемыми регулярностями не исчерпывается релевантное для социологии знание. Статистика позволяет нам (тем лучше, чем более полны данные) либо с полной уверенностью, либо с большой вероятностью предсказать, каковы будут действия людей, даже не вникая в их субъективный смысл. Но социология заинтересована в понимании субъективного смысла. Субъективный смысл и есть то важное, интересное, значительное, а не просто помогающее установить регулярности и предсказать события, что отличает социологию от наук, которые строятся по типу наук о природе, хотя и занимаются исследованиями социальной жизни. Именно поэтому в рамках большого проекта по социальной экономике, в собственно социологическом его разделе, появляются не только «основные социологические понятия» (так, мы помним, называется первая глава «Хозяйства и общества»), но и «основные социологические категории хозяйствования» (т. е. экономика, рассмотренная с социологической точки зрения; так называется вторая глава этой книги). Социологов занимает собственное понимание действующими того, что они делают, будь то в экономике, в науке, в церкви, в государственных учреждениях и т. п. Здесь есть трудность и соблазн, о которых надо сказать особо.
IV
Вебер, как мы видели, считал, что свобода воли и многообразные факторы, определяющие мотивы человеческого поведения, вовсе не делают его непредсказуемым. Совсем наоборот: куда в точности ляжет тот или иной кусок расколовшейся скалы, сказать более трудно, чем то, что сделает получивший приказ подчиненный, особенно если это нижестоящий чиновник в бюрократическом институте или солдат. Конечно, в принципе неповиновение возможно и здесь, мало того, только возможность неповиновения и делает его событием в человеческом мире. Поясним это на знакомом примере. Если бы кусок скалы вообще не упал, а полетел ввысь, вопреки законам природы, это было бы чудом, и наука такого не допускает; а вот если подчиненный не выполняет приказ, это хоть и редкость, но ничего чудесного здесь нет, на то могут быть свои причины, не выходящие за пределы возможной человеческой мотивации. Нарушение законов службы возможно, в отличие от нарушения законов природы. В чем же здесь разница? Законы человеческого мира, если они понимаются как нормы, как предписания, недостаточно говорят нам о действительности. Поэтому, называя социологию, как и историю, наукой о действительности, Вебер, в противоположность юристам и ориентированным на юридическое понимание нормы социологам своего времени, не сводил ее содержание к изучению предписаний. Предписания должны стать реальными действиями, нормы должны быть не просто «значимыми», как говорили неокантианцы, но претворенными в жизнь теми, кто действует и осмысливает свое поведение. Если они этого не сделают, в самых надежных устройствах социальной жизни начнутся сбои.
Итак, есть не столько даже научное, сколько вполне житейское, многократно подтверждаемое соображение: на людей можно полагаться, можно довольно точно знать, как они станут действовать. Но есть и другое соображение, не менее достоверно подтверждаемое опытом: люди время от времени могут нарушить приказ, поступить против правил, забыть об обычаях, сделать выбор вопреки всем рациональным соображениям. Они и более, и менее предсказуемы, чем природные события. Нет ли здесь непродуктивного противоречия? Не запутались ли мы, вслед за Вебером, в сложных материях? Попробуем разобраться! События природы и природная каузальность, конечно, носят всеобщий характер, в этом Вебер не сомневался, как и любой ученый его поколения. Из этого следует, однако, лишь то, что события человеческого мира, действия, включены в некую всеобщую мировую связь. В критике Рошера Вебер как раз и показал, что никакого резона идти в этом направлении нет. Историческая, социальная реальность действий интересны нам не тем, что находятся в большой всеобщей космической связи[24], но тем, что составляет их культурное значение, т. е. тем, например, что это действия государственного служащего или покупателя на рынке. Предсказуемость действия – совсем не та, что предсказуемость природного события. Все тот же кусок скалы, отколовшийся при падении… Имеет ли для нас значение то, что он вообще-то упал, а не взлетел, как воздушный шар? Скорее всего, нет, настолько оно привычно и ожидаемо; а если все же имеет, то, значит, почему-либо это природное событие рассматривается как важное, с точки зрения его ценности, т. е. природное, как учили неокантианцы, становится культурным[25]. Но вот что действие человека скорее предсказуемо и ожидаемо, хотя он может не подчиниться приказу, означает, что оно понятно и объяснимо. Благодаря пониманию мотива мы объясняем его протекание, причем в его протекании нам важно знать, выполнен ли приказ, а не мельчайшие, случайные детали действия, делающие его, как и любое другое событие в мире, уникальным. И повторяющееся, и уникальное имеют культурное значение. Вы не поймете, отчего исторические события пошли так, а не иначе, если не примете в расчет, с одной стороны, закономерное, повторяющееся, роднящее их с другими событиями, а с другой – ту совокупность уникальных связей, которые привели к тому, что регулярность вдруг сломалась. История, социология и даже экономика в этом смысле не противоречат, не исключают, но предполагают друг друга.
Социология для Вебера – одна из эмпирических наук, которая оперирует понятиями, прямо соотносимыми с тем, что можно наблюдать, на что можно указать. Наблюдаемое она не подменяет общими понятиями, обязанными своим появлением логике других дисциплин, а уж если понятия приходится использовать, то лишь переинтерпретировав их в социологическом смысле. Например, для юриспруденции государство представляло собой вполне реальное образование, а для социологии это – только комплекс действий людей. В одной науке можно сказать, что «государство возлагает ответственность» или «ставит цели», а в другой – нет. Поэтому Вебера иногда называют социологическим номиналистом: «государство», «армия», «церковь», «нация» – имена особым образом организованных действий, и недаром первые определения в главе «Основные социологические понятия» выстроены так мучительно строго для читателя, которому Вебер вновь и вновь напоминает: социальные отношения, предприятия, союзы – все это имеет отношение к действиям, ничто не является «вещью». Но здесь-то и кроется та ловушка, о которой мы упомянули в конце прошлого раздела. Сделаем еще один круг, пройдемся еще раз по знакомым уже аргументам.
Люди совершают осмысленные действия, при этом они руководствуются самыми разными соображениями. Мы понимаем смысл этих действий, но насколько, собственно говоря, мы его понимаем? Действие – это не изолированный атом социальности, а смысл его непонятен, если не отсылает к более обширному полю смыслов. Именно в смысловых связях действие становится рациональным или традиционным (веберовская классификация действий устроена сложнее, но вдаваться в ее детали сейчас мы не будем). Именно более длинные и сложные связи позволяют отнести составление документа или перекладывание бумаги из стопки в стопку к бюрократической деятельности, а математические действия в одном случае к научной работе, а в другом – к банковской сфере. Значит, нам мало знать, что действующий сложил или перемножил какие-то цифры, ведь за ними (и он знает это) в одном случае стоят переводы денег, а в другом – изменения веса и пропорций химических веществ. Но что собой представляет эта смысловая связь? Если она устойчивая, значит, субъективный смысл не так уж субъективен. Он субъективен в первом приближении, именно так смысл действия соотносится с актуальным пониманием. Но поскольку в дело вступает интерпретация, смысл оказывается разным в зависимости от контекста истолкований. Вот почему так удобно стартовать с определений Вебера и так трудно продолжать вместе с ним. Первые определения указывают на нечто интуитивно очень достоверное: вот человек, вот действия, вот смысл, который он в них вкладывает, вот смысл, который наблюдатели в них усматривают. Но наблюдатели могут соотносить доступный пониманию субъективный смысл с более широкими смысловыми связями очень по-разному. В частности, они могут акцентировать нормативный или фактический характер смысла. Именно это нам сейчас потребуется разъяснить.
Представим себе, что совершено действие, которое, с точки зрения действующего, лишь часть сделки, например, купли или продажи. Так это понимает сам действующий, так понимает это и наблюдатель. Однако через некоторое время сделка судом объявляется недействительной. Это значит, что действующий ошибался, он принял за сделку то, что ею не было. Тем не менее социолог может сказать, что действующий производил рациональные экономические действия, его ошибка не мешает признавать их как экономическими, так и рациональными. Они экономические, потому что он покупал или продавал. Они рациональные, потому что он рассчитывал получить прибыль. Конечно, можно сказать, что здесь произошло то же самое, что бывает при ошибках в вычислении: тот, кто решает задачу, знает правила и стремится применить их в расчетах, но отсюда не следует, что его результат будет всегда правильным. В свою очередь, неправильный результат не свидетельствует об отсутствии понятной нам рациональности. Но есть разница между первым примером и вторым. Во втором случае даже неправильные вычисления остаются вычислениями, в первом – с юридической точки зрения – недействительная сделка при определенных обстоятельствах перестает быть сделкой вообще, хотя здесь есть свои тонкости и наше описание слишком грубо. Тем не менее есть множество социальных ситуаций, в которых нормативные, часто выраженные на юридическом языке (или языке морали) требования приводят к переквалификации самого действия, радикальному изменению его объективного или, по меньшей мере, признанного в обществе смысла. В одном известном рассуждении Аристотеля говорится, что врач, даже если он лечил неудачно, все равно остается врачом и деятельность его – врачевание. Но с точки зрения определенных систем права, охраняющего интересы профессиональных корпораций, врач не тот, кто лечит, а тот, кто признан корпорацией. Поэтому не признанный корпорацией лекарь может считать, что лечит больного, профессиональные врачи назовут его шарлатаном, а юристы преступником. Примеров большей или меньшей степени убедительности можно привести много, и мы видим, что Вебер был очень чувствителен к этой проблематике. Нельзя не учитывать субъективный смысл, говорил он вслед за юристами, которые занимались уголовным правом. Ведь преднамеренное совершение преступления и случайное должны быть наказаны по-разному. Но отдавать на откуп юристам квалификацию всех социальных действий было бы неправильно. Неокантианский юридический нормативизм даже не сравнивал то, что есть, с тем, что должно быть, но усматривал задачу науки в описании того правильного, к которому нужно стремиться. Именно поэтому Вебер настаивал на том, что субъективный смысл, о котором у него идет речь, – не «правильный», а фактический.
Еще одно, более тонкое и трудное рассуждение Вебера идет дальше. Допустим, говорит он, мы имеем дело с порядком, правила которого облечены в четкие формулы (Вебер использует слово «gesatzt», которое использовалось в старом немецком праве и означало, что у корпорации имеется устав, статут). Вполне возможно, что кто-то захочет действовать с нарушением правил, субъективно отдавая себе в них отчет, но скрываясь, притворяясь, как шулер или вор. Он может так действовать именно потому, что ожидает от других соблюдения этого порядка или предполагает, что имеется, судя по наблюдениям, шанс на то, что они поведут себя так. Вот эти «средние ожидания» чрезвычайно важны для науки. Понимание действий отдельного человека или даже распространение такого понимания на множество людей – это еще не все. Наука исходит из того, что есть объективная возможность, объективные основания для того, чтобы множество людей действовало в среднем сообразно некоторому субъективному смыслу. Понимание не только отделяется от понимания мотивов действия отдельного индивида, но и не исключает фактических ошибок, которые ничего не меняют в понимании общего устройства порядка[26].
Но дело не только в значимости порядка. Если социолог, например, считает, что никакого государства или церкви как особого образования, помимо отдельных наблюдаемых действий, нет, то ведь люди, действия которых он изучает, могут считать иначе. Значит, надо принимать в расчет и этот смысл их действий, т. е. субъективную убежденность в том, что социальные образования существуют. Конечно, не все думают одинаково. Вот что пишет Вебер: «…Современное государство в значительной степени существует именно таким образом – как комплекс специфического совместного действования людей, потому что определенные люди ориентируют свое действование на представление, что государство существует или должно таким образом существовать, т. е. что порядки такого юридически ориентированного рода имеют значимость»[27]. Но в социальной жизни есть много других, одинаковых или однородных действий, и то обстоятельство, что всякий раз отдельный человек совершает отдельное наблюдаемое действие, совершенно не мешает тому, что не только ученый из других дисциплин, но и обычный человек скажет: «Армия выдвинулась на позиции», «государство повысило налоги», «церковь выступила против» и т. п. Поэтому вопрос о том, что в данном случае дает социология, совершенно не праздный. Социология может продемонстрировать способность к переописанию социальной жизни таким образом, чтобы все понятия, которым в других дисциплинах соответствуют «большие вещи», стали бы только именами однородных действий. Однако продуктивность такого переописания далеко не очевидна, и практически может оказаться и более целесообразно, и просто удобно пользоваться аппаратом и способами рассуждения юриспруденции, религиоведения и т. п., чтобы дать наиболее экономные и адекватные описания и объяснения. Именно так нередко поступал и сам Вебер, предлагая воздерживаться от излишнего педантизма. К словам его, повторим еще раз, надо отнестись очень серьезно, не только в связи с его методологическими аргументами, но при чтении других работ, которые, конечно, не могут и не должны быть снабжены специальными этикетками, указывающими, куда, к какой дисциплине и жанру их отнести. Нужно помнить, что в отношении разных текстов Вебера нужна большая осторожность. Нет сомнения в том, что при необходимости все то, что он говорит в публицистических сочинениях или в статьях, кото рые мы сегодня отнесли бы к политической науке, можно представить также и на языке его социологии. Но социология – не всегда последнее слово Вебера в важных для него вопросах. Именно поэтому о государстве, нации, народе, армии, культуре и т. п. он сам иногда может говорить, как о реальных единствах, а не просто совокупностях действий. Здесь нет противоречия и нет догматизма, но нет и последней ясности, которой мы были бы вправе ждать от классика.
V
Тот, кто сравнительно редко сталкивался с сочинениями Вебера или знакомился с ними отрывочно, по хрестоматиям и учебникам, обнаружит даже в этом небольшом сборнике удивительное разнообразие материалов и аргументов. «Парламент и правительство в новой Германии» – это программный текст, написанный, конечно, на злобу дня, но при том позволяющий судить о принципиальной позиции Вебера, который участвовал в становлении республики, написании конституции Веймарской Германии и политических баталиях своего времени. У него были серьезные политические амбиции, хотя как публичный политик он не состоялся. Зато обоснование так называемого национального либерализма, глубокое проникновение в проблемы представительного правления оказались связаны у него не только с актуальной повесткой, но и с общим представлением о задачах модернизации, которые стояли перед Германией, пережившей тяжелое военное время.
Вебер был, с одной стороны, представителем крупной и, в известном смысле, космополитической немецкой буржуазии, связанной деловыми и родственными узами если не со всей Европой, то по меньшей мере со значительной ее частью. Богатый, прекрасно образованный, вынужденный по состоянию здоровья провести много времени за границей, Вебер, однако, был вместе с тем немецким патриотом и националистом в точном историческом смысле слова. Он считал, что Германия должна и имеет право отвоевать себе более влиятельное положение в мире, чем то, в котором она находилась накануне Первой мировой войны. Перед ней, считал он, стоят всемирно-исторические задачи. Пацифизм ему был чужд, поражение Германии в войне он переживал тяжело, но безо всякого раскаяния. И во время войны, и после войны Вебер настаивал на необходимости освободить политику от эмоций, говорил о предметной, объективной (sachlich) политике. Именно отсюда удобно начать рассматривать некоторые аспекты его концепции власти.