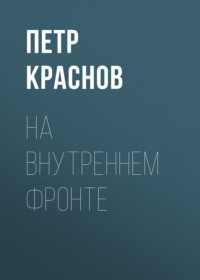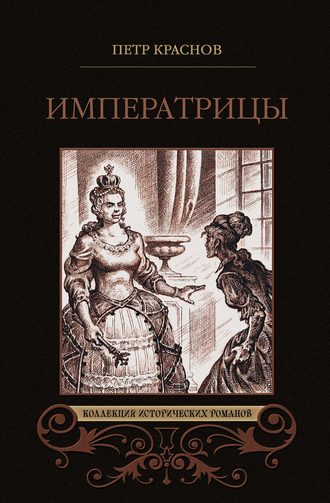
Полная версия
Императрицы (сборник)
– Фельдмаршала Миниха карету…
Золотой солнечный свет слепил глаза. Морозный ветер обжигал лицо. Весело плескали волны голубеющей Невы.
В этот вечер герцог Брауншвейгский сидел в опочивальне, где стояла колыбель его сына императора Иоанна III. Перед ним на столе горели две свечки, в их свете лежал большой лист плотной бумаги с каллиграфически чисто писарской рукой выведенным письмом. Герцогиня Анна Леопольдовна стояла над колыбелью сына. Ее лицо было презрительно и строго.
Она повернулась к мужу и сказала по-немецки:
– Так и подпишешь?..
– Что же я могу сделать? – дернув плечами, ответил герцог Антон.
– Дурак!.. Дурак и дурак!.. Дураком родился – дураком и умрешь… Все искусство твое – детей делать… А сам никуда…
– Я обещал, Анна…
– Обещал!.. Ты думал о том, кому ты обещал?.. Посмотри, что вокруг тебя делается… Везде ропот и неудовольствие… Отчего не позовешь Миниха и не поговоришь с ним?..
– Что Миних? – вяло сказал герцог Антон и взял в руку перо. В колыбели заплакал, забулькал слюнями ребенок-император, его сын.
На листе бумаги на имя этого ребенка крупными кудрявыми буквами было выведено: «Всепресветлейший, державнейший великий государь император и самодержец всероссийский, государь всемилостивейший…»
Герцог Антон читал эти строки. «Государь всемилостивейший» продолжал плакать. Анна Леопольдовна склонилась над колыбелью и тихим голосом успокаивала ребенка.
Герцог Антон перечитывал написанное: «По всемилостивейшему Ее Императорского Величества блаженные и вечно достойные памяти определению пожалован я от Ее Императорского Величества в чины – подполковника при лейб-гвардии Семеновском полку, генерал-лейтенанта от армий и одного кирасирского полку полковника. А понеже я ныне, по вступлении Вашего Императорского Величества на всероссийский престол желание имею помянутые мои военные чины низложить, дабы при Вашем Императорском Величестве всегда неотлучным быть.
Того ради, Ваше Императорское Величество, всенижайше прошу, на оное всемилостивейше соизволя, от всех тех доныне имевших чинов меня уволить и Вашего Императорского Величества указы о том, куда надлежит, послать; также и всемилостивейшее определение учинить, чтоб порозжие чрез то места и команды паки достойными особами дополнены были…»
Герцог Антон умакнул перо и написал внизу: «Вашего Императорского Величества нижайший раб Антон Ульрих…»
Потом присыпал пестрым песочком подпись, упал головой на стол и громко, как ребенок, заплакал.
– Ну, вот чего еще недоставало, – с досадой сказала Анна Леопольдовна и, взяв императора из колыбели, понесла его в соседнюю комнату, подальше от горькими слезами плачущего его «нижайшего раба» и отца…
X
В первых числах ноября все воинские части и старшие начальники получили отпечатанный на отдельном листе желтоватой рыхлой бумаги крупными черными буквами «Указ нашей военной коллегии». В этом указе было объявлено:
«Понеже Его Высочество наш родитель принц Антон Ульрих, герцог Брауншвейг-Люнебургский, как из приложенной при сем копии явствует, желание свое объявил имевшиеся у него военные чины снизложить, а мы ему в этом отказать не могли, того ради и чрез сие о таком его высочества снизложении чинов военной коллегии объявляется для известия, яко же и в гвардии такой же наш указ послан. А бывший у его высочества кирасирский полк, именуя и впредь его неотменно Брауншвейгским полком, определили мы отдать генерал-фельдмаршалу гр. фон Лессию, вместо определенного ему полевого полку, к которому потому же другого командира нам представить надлежит. И повелеваем нашей военной коллегии о вышеписаном учинить по сему нашему указу. Именем Его Императорского Величества Иоанн, регент и герцог. Скрепили: Андрей Остерман, князь Алексей Черкасский, Алексей Бестужев-Рюмин. Ноября 1-го дня 1740 года…»
Его Императорскому Величеству, чьим именем родитель его герцог Антон Ульрих был вышвырнут из армии, шел третий месяц.
Этот указ произвел в армии большое и тягостное впечатление. Если маломесячный император, сосущий соску, так распорядился с «любезнейшим своим родителем», какая же участь могла ожидать любого из генералов армии… За неосторожное слово и даже не им сказанное, а сболтнутое кем-нибудь из молодых подчиненных, по доносу, по оговору недовольного офицера или солдата можно было лишиться чинов и службы, попасть под розыск и познакомиться с дыбой и плетьми.
Жутко и настороженно стало в военных кругах Санкт-Петербурга. Тайная канцелярия свирепствовала. Генерал Андрей Ушаков и князь Никита Трубецкой искали крамолу при самом герцогском дворе. Адъютант принца Брауншвейгского Петр Граматин, «токмо по одному сумнению чрез того адъютанта все ведать», герцогские секретари Андрей Яковлев, Любим Пустошкин и Михаил Семенов были приведены в застенок и подняты на дыбу.
Им дали по шестнадцати ударов плетьми. Ухо Бирона и его глаз были приложены к самому двору Анны Леопольдовны и там искали измену.
Анна Леопольдовна наконец возмутилась. При всей своей лени и беспечности она поняла, что, если дело пойдет этим путем, ей самой и ее мужу может угрожать опасность.
– Бирон зазнался, – повторяла она сама себе, – Бирон совершенно забыл, кто он и кто мы… Сего так оставить не можно.
Она обласкала семью фельдмаршала Миниха и назначила гофмейстером своего двора сына Миниха.
Зимним утром она вызвала к себе фельдмаршала. Она приняла его в своей опочивальне как месте, где она чувствовала себя в относительной безопасности.
Фельдмаршал в парадном кафтане, в звездах и при лентах вошел в полутемную комнату, где было угарно и сильно пахло ладанным куреньем, и остановился у двери. Анна Леопольдовна поднялась от божницы, где она стояла на коленях. Ее лицо было в слезах. Она протянула руку фельдмаршалу, приглашая его подойти ближе, и когда он целовал пухлую горячую, пахнущую лавандой руку, герцогиня тяжело вздохнула и тихо сказала по-немецки:
– Ах, мой милый Миних!..
Она взяла руку фельдмаршала и, глядя в его стальные глаза, продолжала по-немецки:
– Фельдмаршал, вы большой человек… Вы можете понять мое горе и мои опасения. Я больше не могу. Я дошла до предела… Я не могу дольше сносить оскорблений, которым подвергают меня и моего мужа. Тирания герцога мне больше не под силу. Я ныне и у себя в доме не хозяйка и не в безопасности… Я решила покинуть Россию… Но, вы понимаете, я не могу разлучиться с сыном… Он – все, что мне дорого на свете… Он мое сокровище… В нем моя кровь…
– Ваше Высочество, – нерешительно сказал Миних. В его голосе Анна Леопольдовна услышала колебание и недоверие. Она крепче сжала руку старого фельдмаршала и долго с немым упреком смотрела в его глаза.
– Вы мне не верите, Миних?..
– Ваше Высочество, смею ли я?..
– Нет… По глазам вашим я вижу – вы мне не верите!.. Но, Миних, я имею тому доказательства… Неужели вам мало того унижения, которое испытал герцог в присутствии всего генералитета… Моих верных слуг хватают и бьют плетьми, сдирая с них кожу только за то, что они нам верные слуги. Миних!.. Что же сие будет?.. Не знаю, о чем помышляете вы, когда все сие касается армии, которой вы отдали столько своих сил и с которой вы толикую себе стяжали славу. Но я… Я дальше не могу этого сносить… Не забудьте – я мать!.. Мать императора!.. Вы это должны понять!.. Я мать!..
– Ваше Высочество, – тихим голосом сказал Миних, высвобождая свою руку из руки герцогини и отходя в самый угол комнаты, подальше от дверей, – если дело зашло так далеко… и Ваше Высочество с возлюбленным сыном вашим, императором всероссийским, хотите даже покидать Россию?.. Благо государства заглушает во мне признательность, которою я обязан герцогу… Ваше Высочество, вам стоит только приказать и объявить о своих намерениях гвардейским офицерам, которых я приведу к вам, и я… арестую герцога Курляндского.
Анна Леопольдовна отшатнулась от Миниха. Она, казалось, испугалась столь решительных действий фельдмаршала. Она устремила глаза на божницу и несколько долгих минут смотрела на иконы, ища в молитве совета.
– Миних, – сказала она наконец, и голос ее дрожал, в нем слышались слезы. – Да все сие может быть… по-военному… и так… Я высоко ценю усердие ваше к службе… Но, Миних, вспомните о судьбе семейства вашего и вашей… И себя и их вы погубите.
– Ваше Высочество, когда дело идет о службе царю и о спокойствии государства, какая может быть речь о себе или о своем семействе?.. Я, Ваше Высочество, о своей жизни, во многих бывши баталиях, никогда не помышлял.
Анна Леопольдовна крепко пожала руку Миниха и проводила его до дверей спальни, не сказав ему больше ни слова.
Из Зимнего дворца Миних поехал в Летний дворец к герцогу Бирону. Была гололедица, порхал мелкий, льдистый снежок, по посыпанным желтым речным песком доскам мостовой лошади кареты Миниха скользили, и Миних ехал шагом. Время было продумать последствия всего сказанного. Миних вспоминал свою военную службу и повторял слова петровской военной науки. Бирон был неприятелем. Его надо взять штурмом, и Миних обдумывал план атаки.
«“Быстрота: атаковать неприятеля, где бы он ни встретился… Вся земля не стоит даже одной капли бесполезно пролитой крови…” Да, велик был Петр… Малой кровью повелевал добывать победу… Малой кровью… А мы?.. Какими мы головами играем!.. За такое дело и младенца-императора не пожалеют… Четвертовать за милую душу!.. Но… Где тревога, туда и дорога. Посмотрим, как там?..»
Миних ехал произвести личную разведку неприятельской крепости. Еще не погребенное тело императрицы Анны Иоанновны стояло в парадных залах Летнего дворца. У дворца был большой караульный наряд. Пропускали людей всякого звания поклониться набальзамированному телу государыни. В самом дворце пахло еловой хвоей, цветами, ладаном и воском и было то особенное, напряженное состояние, какое всегда бывает, когда в доме надолго остается без погребения покойник. В нижних залах от растворенных дверей было холодно и колебались желтые огни свечей у гроба.
Миних – ему сейчас же очистили место в очереди людей, шедших поклониться покойнице, – подошел к гробу, тяжко, по-стариковски преклонил колени, долго всматривался в пожелтевшее лицо точно спящей императрицы, покачал головой, неловко, как крестятся лютеране, перекрестился и, высоко неся красивую голову, вышел из залы и стал подниматься по лестнице в покои герцога.
Бирон обрадовался старому фельдмаршалу. По той торопливой ласковости, с какой регент стал оставлять Миниха у себя и упрашивать отобедать, Миних понял, что неспокойно на душе у Бирона. Покойница, согласно с обычаями все не могущая покинуть его дома, городские слухи и всюду кажущаяся, действительная или мнимая измена – все тревожило Бирона. И Миних это сейчас же почувствовал.
«Где тревога – туда и дорога…»
Миних остался обедать у Бирона, спокойно, по-дружески разговаривал – и все по-немецки – с регентом, рассказывал о своих походах и победах над турками, делал характеристики генералам и полковникам, назначенным на замену тех, кого регент подозревал в измене. Они курили трубки и казались искренними старыми друзьями. Маленькими, зоркими, острыми глазками все поглядывал Миних на Бирона и оценивал его, как крепость, которую собирался штурмовать: что, мол, сдашься или крепкое будешь чинить сопротивление?
– Ранцева от Ладожского полка надо убрать в первую голову, – сказал Бирон и закутался облаками табачного дыма. – Хороший солдат, а мне не нравится.
– Да, хороший солдат, – подтвердил Миних. – Петровский… Мало таких у нас осталось.
– Убрать!.. – дрогнувшим голосом повторил Бирон. – И его сына, капитана Преображенского полка… И весь полк… Бунтовщики!.. Убрать всех к чертовой матушке!..
Миних качнул головою и подумал: «Ну, сие!.. Как бы они еще тебя самого не убрали… Боишься?.. Где тревога?.. Да, самое время… Ее материнское чутье ее не обмануло…»
Он раскурил трубку, открытыми глазами твердо посмотрел на Бирона и сказал с равнодушной флегмой:
– Что ж, уберем… Я составлю доклад военной коллегии.
До семи часов вечера Миних оставался у Бирона, потом вернулся к себе и стал обдумывать, как взять ту крепость, гарнизон которой уже находился в тревоге. Миних знал, что герцог отдал от себя приказание караулу у его Летнего дворца стрелять по всякому отряду войск, большому или малому, который появится у дворца после десяти часов вечера и до пяти часов утра.
«Дело, значит, надо сделать аккуратно».
Миних не лег спать. Все у него было хорошо продумано, но вдруг заколебался. Войска ему не изменят, войска его послушают, но может передумать, испугаться и изменить в последнюю минуту сама принцесса Анна. Она мать и, как мать, может все сделать для спасения своего ребенка. Миних вызвал к себе своих адъютантов Манштейна и Кенигсфельда и приказал подать сани и карету. В сани посадил Манштейна, сам с Кенигсфельдом сел в карету и поехал в Зимний дворец. У дворца он сказал адъютантам:
– Мне надо поговорить с сыном-гофмаршалом. Оставайтесь у дверей и ждите меня.
В карауле была рота Преображенского полка капитана Ранцева.
Караульный начальник остановил его.
– Ваше сиятельство, – сказал он, салютуя эспантоном, – имею приказ вашего сиятельства никого не пропускать на половину, где помещается Его Величество и герцогиня Брауншвейгская.
– Я освобождаю тебя от данного мной приказа, – твердо сказал Миних. – Возьми с собой своих офицеров и следуй за мной.
Они прошли к спальне герцогини. Спавшая у дверей дежурная камер-фрейлина в испуге кинулась к ним.
– Судари, – закричала она, – что вы делаете?.. Ее Высочество уже давно почивают.
– Одна?.. – спросил Миних.
– С младенцем-императором.
– Разбуди Ее Высочество и скажи, что фельдмаршал Миних просит выйти по неотложному делу.
Но уже шум у дверей спальни разбудил Анну Леопольдовну, и она вышла в темном шлафроке и белом большом платке со свечой в медном подсвечнике в руках.
– Ваше Высочество, – решительно и твердо сказал Миних. – Я иду исполнить ваше приказание арестовать герцога Курляндского, но мне надо, чтобы вы, в присутствии караульных офицеров, подтвердили его.
– Господин фельдмаршал, – взволнованно, глубоким, дрожащим голосом сказала Анна Леопольдовна, – господа офицеры!.. Мой желаний есть, чтобы ви арестовал герцог… Он не дает нам жить… Сие терпеть дольше нельзя. Офицеры молча поклонились. Герцогиня подошла к Миниху и поцеловала его в лоб, потом подбежала к Ранцеву, обвила горячими руками его шею и крепко поцеловала в щеку, после перецеловала обоих бывших с ним офицеров.
– Ступайт, – сказала она. Слезы блистали на ее глазах. – Бог помогайт вам!
– Камрады, – сказал Миних. – Идемте и исполним наш долг перед Родиной и государем.
Офицеры повернулись по-уставному и пошли за Минихом.
Морозная ночь лежала над Петербургом. Снеговой покров лег на улицы ровной, не наезженной пеленой. Снег продолжал сыпать крупными хлопьями. На гауптвахте тускло горели желтыми пятнами фонари. Снежинки в их свете играли перламутром.
XI
Цесаревна проснулась в своей спальне в Гостилицах в восьмом часу утра и, накинув шлафрок, подбежала к окну и отдернула занавеску. Она не ошиблась. Недаром она так крепко, не просыпаясь, проспала всю ночь. Все было бело кругом от нападавшего глубокого, рыхлого еще снега.
Горностаевым мехом оделась земля, в чеканные серебряные ризы обрядились леса. Над белыми холмами, из-за Глядинской мызы желтым кругом в оранжевое небо поднималось солнце и слепило глаза цесаревне. От окна дуло хорошим морозом, и сквозь стекла было слышно, как на дворе скрипели шаги по снегу. У кухонного подъезда стояли сани, запряженные лошадью. Шерсть была у лошади в мокрых кольцах и завитках и дымилась на воздухе. Кругом, сколько глаз хватал, были в зимней оправе леса. Такая тихая радость была в Божьем мире, что цесаревна всем существом своим ощутила ее, и весело забилось ее сердце.
Она разбудила заспавшуюся горничную и послала ее за камердинером Чулковым.
– Ступай, – сказала она ему, – буди Алексея Григорьевича, пусть убирается в верховой костюм. Сейчас же седлайте мне Драмета… Какая погода! Мы поедем кататься… Какой снег-то напал!.. Нежный, пушистый, – самая пора ныне скакать!..
В том же радостном возбуждении цесаревна вышла в маленькую залу подле спальной. Новая радость ее ожидала. Из петергофских оранжерей ночью, санями, в корзинах, укутанных в войлок и солдатское сукно, ей привезли первые гиацинты и тюльпаны. Зала, где было свежо и где истопник только растапливал голландскую, в белом с голубыми рисунками кафеле печь, была напоена свежим, нежным, сладким запахом гиацинтов. Розоватые новые рогожи были постланы на блестящий паркет, и на них стояли большие, из дранки сплетенные овальные корзины, полные маленьких горшков с цветами. Садовник и два камер-лакея расставляли их в золотых вазонах.
– Экие вы, братцы, – воскликнула цесаревна, – ну, куда вы пихаете лиловые?.. Розовые ширмы и лиловые гиацинты!.. Сюда тащите тюльпаны. Великолепные, отменные у вас вышли в этом году тюльпаны, лучше, чем у меня в Перове. И стебли когда успели такие длинные дать!
Она отошла от ширм и, прищурив голубые, прекрасные глаза, смотрела издали на готовую вазу с цветами.
– В самый раз потрафили, – сказала она, поворачиваясь к садовнику. – Больше здесь не надо. Остальное тащите в столовую. Здесь только – розовое, белое и чуть-чуть красных поставить, туда, в тень, в самый угол.
Сама красота несказанная – цесаревна и вокруг себя любила все красивое. Она сказала по-немецки садовнику:
– Ладно?
– Так точно, Ваше Высочество, – улыбаясь, ответил немец и стал по-немецки рассказывать, как им удалось вывести столь ранние цветы.
– Очень хороши в этом году голландские луковицы, что летом пришли на корабле Якова Геррица из Амстердама. Вы посмотрите, какие густые эти белые… Низковаты немного, зато какие пышные и какие ароматные.
Цесаревна подошла к золотой вазе, наполненной цветами, и опустила в них свое свежее, румяное лицо.
– Да, – с тихим вздохом сказала она, – удивительны. Аромат… Свежесть… Не надышишься…
В дверь осторожно постучали.
– Входи, Алексей Григорьевич.
В белом камзоле, высоких сапогах Разумовский казался еще выше ростом, красивее и статнее. Цесаревна, не отрываясь от цветов, протянула ему маленькую руку. Тот поцеловал ее и остановился, не зная, что сказать. Восторг и обожание горели в его глазах. Так хороша была его царевна сказки в этом царстве диковинных цветов. Она поняла его мысли и счастливо улыбнулась.
– Ну что?.. Как почивал?..
– Ваше Высочество… Как вы?.. Как вы изволили почивать?..
– Так спала… Так спала… И сны какие-то снились, а какие, не запомнила… Что скажешь?.. Зачем пожаловал?..
– Какой кафтан повелишь надевать на прогулку?
Она прищурила глаза и рассматривала его, как бы соображая, во что и как ей обрядить своего любезного. Веселые искры загорелись в глазах, ямочки заиграли на полных щеках.
«Нет… хорош, хорош мой Адонис… В тридцать лет какой стан! Во что мне обрядить его?.. А?.. Придумала».
Она погасила загоревшийся в ней огонь. Кругом были люди, и хотя, конечно, те люди все знали, – она соблюдала придворный этикет.
– Холодно, друг мой неизменный, а я хочу много и долго кататься. Надевай белый полушубок и шапку казацкую белой волны… А я надену белую амазонку, кафтан на горностае и горностаевую шапку. Лошади будут серые, снег кругом белый… Вот-то ладно будет. А с собою возьмем черных моих арапов и на вороных лошадях и с ними Нарцисса и Филлиду…
– Обе черные, в стать и в лад им, – подхватил Разумовский, которого заражало веселье и радость цесаревны.
– Итак, поторопись…
– Зараз и обряжаюсь.
Цесаревна сделала менуэтный поклон и побежала легкой побежкой, точно горная лань, к себе в опочивальню.
Рослые, широкие, с львиною грудью и толстыми крупами, с маленькими щучьими головками, ганноверские лошади в драгоценном уборе прыгали, еле сдерживаемые арапами в красных кафтанах. Большие меделянские собаки, такие же черные, как и арапы, метались в своре. В морозном воздухе звонок был их веселый лай.
Едва коснувшись маленькой ножкой руки арапа, цесаревна легко вспрыгнула в седло. Арап оправил на ней широкую, тяжелую и длинную амазонку, закрывшую лошадь до самого хвоста. В маленькой белой шапочке с соколиным пером на золотых кудрях, в туго в талии стянутом кунтуше цесаревна, прекрасно сидевшая на лошади, и точно, казалась не земной, не действительной, но точно из мира сказок прибывшей сюда, в белые снега, к белым, высоким, в серебряном инее березам широкой аллеи, людским вымыслом созданной, прекрасной царь-девицей.
Они поскакали галопом по дороге, шедшей по косогору. Так, согреваясь скачкой, дыша полной грудью морозным воздухом, проскакали они версты две и въехали в густой, запорошенный снегом, заиндевелый лес. Дорога обозначалась лишь узким санным следом. Крестьянские обозы еще не прошли по ней и не накатали ее. По рыхлому, глубокому снегу лошади шли воздушно и легко, высоко поднимая ноги. Их перевели на шаг и ехали молча, отдав повода задымившим лошадям. К нежному запаху снега стал примешиваться терпкий запах конского пота. Угомонившиеся псы бежали рядом, раскрыв пасти и выпустив красные языки. Они поглядывали умными блестящими глазами на цесаревну.
Радость мира была вокруг них. Каким далеким им казался сейчас Петербург со всем тем, что в нем совершалось.
– Хорошо, Алеша?
– Дюже гарно.
– Ах, Алеша, Алеша!.. Быть может, все сие и грешно по отношению к Анне… Да что поделаешь!.. Живешь один раз и жить так хочется!.. Надоели мне все те панихиды и траур… И сколь много там лжи. Хотя на неделю урваться сюда. Да простит мне Бог и военная коллегия, сегодня мы послушаем за обедом французскую певицу… Чуть-чуть… одну-две песни… Сие не должно нарушить ни печали, ни траура по нашей сестрице. Государыня Анна Иоанновна и сама все сие жаловала, и у престола Всевышнего, где она ныне находится, она нас не осудит и замолит наши грехи… Если сие и правда такой уже большой грех радоваться Богом дарованной нам жизни и ее усладам?.. Тс-с-с. Стой, – шепотом закончила она свои слова и, протянув руку, остановила Разумовского, арапов и собак.
– Гляди, – восторженно прошептала она. – Ты понимаешь это?.. Совершеннейшую сию красоту?
На молодой невысокой, в снегу и инее, как в белой с серебром шубке, елке сидели три снегиря-самца и с ними серая, скромная самочка. Снегири надували розовые пушистые грудки, выгибались голубо-серыми гладкими спинками и, тихо посвистывая, точно ухаживая за своей бедно одетой любезной, перепрыгивали с ветки на ветку. Крошечными алмазами падала из-под черных лапок снежная пыль. Только и всего было. Но в том восторженно-размягченном состоянии, в каком была цесаревна, эти птички показались ей несказанно красивыми, и несколько мгновений, пока птицы, испуганные Филлидой, захотевшей ближе посмотреть на них, не вспорхнули и улетели, она, раскрыв совсем по-детски рот, любовалась ими.
– Зачем ты сделала сие, Филлида? – с тихим упреком сказала цесаревна и тронула лошадь широкою рысью, и долго так ехала она, прыгая в седле и радуясь колыханиям полнеющего тела, где все горячее и горячее бежала кровь.
Какая-то совсем особенная радость и ликование заливали широким потоком ее душу, и хотелось, чтобы радость эта, жизнь эта среди прекрасной природы никогда ничем не прерывались.
Зимний день догорел, и синие сумерки спустились над белым миром, когда цесаревна в красивой темно-серой траурной «адриене» вышла к обеденному столу, накрытому на два прибора. Разумовский в простом черном кафтане ожидал ее. В углу у клавикордов были французская певица и итальянец-аккомпаниатор. Камер-лакеи стояли за стульями с высокими спинками. На столе горел канделябр о пяти свечах, у клавикордов были зажжены две свечи. Углы просторной столовой тонули во мраке. В ней было тепло, чуть пахло ладанным дымом догоравших в печи сосновых смолистых дров и была вместе с тем та особая свежесть, какая бывает зимой в деревянных дачных строениях среди полей и лесов. В большом камине только разгорались, потрескивая, большие трехполенные дрова.
– Садись, Алеша.
Молодая кровь, возбужденная ездой по морозу, играла в жилах цесаревны. Румянец не сходил с ее щек. Потемневшие в сумраке столовой глаза вдруг отразят свет свечей и загорятся темным агатом. Совсем другая была теперь цесаревна, чем утром на прогулке. Точно далекая и влекущая.
– Ваше Высочество, горилки повелишь?..
– Ты пей, Алеша, а я не буду. От водки, люди сказывают, полнеешь. А я?.. – Цесаревна с милой и смущенной улыбкой коснулась больших, упругих, красивых грудей, стянутых платьем, и покраснела… – Уж очень я добреть стала.
Камер-лакей поставил перед ней высокую серебряную кастрюлю, укутанную белоснежным полотенцем, и торжественно провозгласил:
– Ваше Императорское Высочество, уха из налимьих печенок.