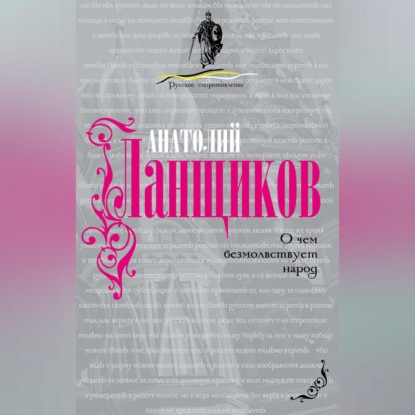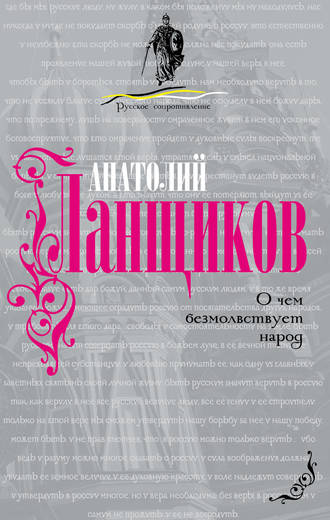
Полная версия
О чем безмолвствует народ
Ему было одиноко, и короткая, как я предполагал, встреча обернулась многочасовым разговором. Оказалось, что совершенно случайно я «попал в точку». Анатолий Петрович всю жизнь – это его слова – мечтал написать о русской драме, да вот все как-то не складывалось. Он загорелся предложением и согласился расширить журнальную публикацию о «Горе от ума» и написать еще две главы: про «Недоросль» и «Вишневый сад». В итоге даже родился заголовок будущей книги «Три века – три шедевра русской драматургии». «Я напишу, обязательно напишу, только бы глаза позволили…» – не знаю, кого больше, меня или себя, убеждал он.
Желая хоть чем-то порадовать его, я подарил специально принесенные два номера «Москвы» с моим романом. Но признался, что в последнее время помимо прозы неожиданно для себя обратился к литературоведению, и рассказал о новой выходящей в свет работе «Радости и горе счастливой жизни в России. Новый взгляд на «Войну и мир». Триптих». Ланщиков улыбнулся и достал свою книжку «О пользе праздного чтения», нашел нужную страницу, отчеркнул абзац и сказал: «Читай вслух». Я прочел подчеркнутое им место: «А если говорить серьезно, то новое прочтение, осознание Толстого должно идти прежде всего через литературную критику».
На прощание он сказал: «Саша, спасибо тебе за твою преданность русской литературе». Анатолий Петрович, подчеркну, отношение к русской литературе всегда ставил выше личных отношений. И хотя это уже была ненастная для него пора, когда он фактически отошел и от литературных баталий, и от политики, которой отдал несколько лет своей жизни, а значит, настало время, когда смолк домашний телефон, и «дорогие друзья и ученики» уже не донимали как раньше визитами, он поблагодарил не за приход, не за память о нем и даже не за поступившее предложение, а лишь за преданность литературе.
На первой странице последней подаренной им книги «О пользе праздного чтения (литературные заметки в ненастную эпоху)» есть фраза, сказанная им в беседе с журналистом газеты «Литературная Россия»: «Все зависит от времени и от обстоятельств». В день, когда из моих рук упал синий томик, на обложке которого золотым тиснением было отпечатано «Анатолий Ланщиков. Вопросы и время», оборвалось отведенное судьбой время и истаяли вопросы, на которые всю жизнь искал ответы интересный, по-настоящему разносторонний, остроумный литератор с безупречной и человеческой, и профессиональной совестью, московский критик, вдохновенно-стремительный и в слове, и жизни.
Обстоятельства сложились так, что его заветная мечта написать о шедеврах русской драматургии так и не осуществилась…
Горько оттого, что «чувство пути», которое Ланщиков некогда ощущал в себе, обернулось для него чувством страшного одиночества в последние годы. И в тоненькой, в обложке, а не в переплете, чем-то напоминающей его самую первую, книжке «О пользе праздного чтения», кажется, единственный раз у него прорвется собственная душевная боль: «И, устрашившись будущего, бежишь в спасительное прошлое».
Но «история, – был убежден он, – развивается по законам высшей справедливости». И хочется думать, что справедливость не миновала его там, куда он ушел от нас.
Ал. Разумихин
О чем молчала земля?
Вместо предисловия
Духовную культуру нельзя ни придумать, ни создать в придуманные сроки; она накапливается веками, в ее состав входят усилия не только многих людей, но и многих веков, разумеется, те усилия, что постоянно сохраняют преемственную связь и подразумевают единую нравственную цель, далеко выходящую за пределы сиюминутной выгоды.
Когда мы принимаемся рассуждать об «уроках Толстого», то непременно указываем на эпичность, философичность, психологичность произведений великого писателя, а между тем в первом же своем рассказе «Набег» Толстой дал образец высокой художественной публицистичности, о чем у нас еще представится случай поговорить более подробно.
Как-то в одной из частных бесед Толстой, уже будучи автором и «Войны и мира», и «Анны Карениной», заметил своему оппоненту: «Ничего писатель не вправе желать зажигать. Он должен не зажигать, а сам гореть». Действительно, когда писатель «сам горит», то его личное обращение к читателю не разрушает живую ткань произведения, а органически в нее вливается, усиливая его общее звучание. И тут Толстой не изобретал ничего нового, он лишь развивал – на новом этапе художественного постижения действительности – традиции русской литературы, идущие к нам еще от автора «Слова о полку Игореве» и так яростно преломленные позднее в страстном слове Аввакума.
Вскоре после публикации повести В. Распутина «Пожар» ее автор в беседе с С. Залыгиным заметил, что современная русская проза все более и более тяготеет к публицистичности. И тут с В. Распутиным нельзя было не согласиться, и не только потому, что многие наши признанные художники слова все чаще и чаще стали выступать в печати с публицистическими статьями; в последние годы в самих беллетристических произведениях заметно повысился удельный вес публицистичности.
Вероятно, читатели повести «Пожар» сразу же уловили ее связь с повестью «Прощание с Матерой», которая в свое время вызвала немало самых разных толков и споров, не замыкающихся лишь на оценке художественных достоинств произведения или значимости и интересности заключенной в нем сюжетной коллизии. Порой автору «Прощания с Матерой» ставили в вину якобы неоправданную скорбь по уходящей старой деревенской жизни, что так противоречит неизвестно кем запланированной и обязательной для всех радости, которую должен возбуждать каждый шаг научно-технического прогресса, какие бы последствия этот шаг ни вызывал в нашей сегодняшней жизни, не говоря уже о тех последствиях, которые он сулит в будущем.
Финал повести «Пожар» в окончательной редакции звучит так:
«Молчит земля.
Что ты есть, молчаливая наша земля, доколе молчишь ты?
И разве молчишь ты?»
Действительно, молчит ли земля? Нет, земля наша никогда не молчит, ее неумолкающий голос постоянно вещает о чем-то главном. Другое дело – слышим ли мы его? К сожалению, на этот вопрос утвердительно отвечать не приходится. В постоянном и так часто пустом словоговорении, в страшном и непрерывном гуле, который мы сами творим и под аккомпанемент которого пролетают дни нашей жизни, мы не слышим самых нужных слов земли, они летят мимо нас, а мы пугаемся собственной судьбы по причине глухоты, точнее, оглушенности, когда не слышатся ни зов земли, ни ее предупреждения.
Когда-то человек, уличивший себя во лжи, неискренности, суесловии, давал обет молчания. Не думаю, что мы сейчас совершенно не нуждаемся в подобного рода диете. Возможно, при строгом ее соблюдении мы вновь научились бы слушать, и «молчаливая наша земля» поведала бы нам то, что так необходимо знать сегодня, и вновь восстановился бы тот «диалог», без которого земля становится всего лишь стартовой площадкой для полетов неизвестно куда и неизвестно зачем.
Минуло немало лет, воды, затопившие Матеру, унесли в историю и те давние споры, но они не унесли в историю распутинское сказание о затопленной Матере, оно, омываемое быстротекущими водами времени, как бы присутствует и в сегодняшнем дне. Наше сознание, сопротивляясь универсальному закону всепреходящности, закрепляет если и не навсегда, то в различной степени надолго все то, что может служить материалом для создания культурного пласта, без которого человечество жить не может, как не может жить богатая флора без культурного почвенного пласта, наработанного веками и тысячелетиями. Нет такого пласта, и нет никакой жизни и даже ее следов – бескрайняя равнодушная пустыня перекатывает из ниоткуда в никуда свои сухие мертвые пески с упорством, равным бессмысленности проделываемой ею работы.
Творчество В. Распутина всегда было публицистично. Если же его повесть «Пожар» и представляет здесь какое-либо исключение, то лишь в том смысле, что публицистичность в ней является не только смысловой, но и художественной основой, что обусловлено выбором главного героя, а выбор героя обусловлен самим временем. И этим героем в повести «Пожар» является земля. Потому-то автор не столько заботился о раскрытии характера Ивана Петровича Егорова (вроде бы центральной фигуры произведения), сколько о выявлении его судьбы в ее нечастных проявлениях, хотя сам Иван Петрович всего лишь частность в диалоге Человек – Земля, однако та частность, без которой диалог этот состояться не может.
«Он и фамилию носил ту же, что была частью деревни и выносом из нее, – Егоров, Егоров из Егоровки. Вернее, Егоров в Егоровке».
Вероятно, сам Иван Петрович никогда не рассуждал и не размышлял на подобные темы, но автору важны были не рассуждения Ивана Петровича, а повороты его судьбы, важен «Егоров в Егоровке», точнее, Егоров без Егоровки. Надолго Егоров выезжал из Егоровки только на войну, а навсегда он ее покинул в силу совсем уже иных, мирных обстоятельств: Егоровку постигла та же участь, что когда-то постигла Матеру, – затопление. От века велось: людские поселения (деревни ли, города ли) всегда переживали своих жителей, вбирая в себя их созидательный труд, а тут получилось наоборот – Егоров остался, а Егоровки не стало, ушла навсегда под воду.
«Новый поселок, в который свезли шесть таких же, как Егоровка, горемык и где сразу утвердился леспромхоз, назвали по обширным лесам, а на теперешний взгляд, по сырью – Сосновкой».
Человек при рождении получает собственное имя, к нему еще приобщается имя отца (отчество) и фамилия рода, чаще всего образованная от названия местности, к которой этот род как бы засвидетельствовал свою принадлежность.
Иван Петрович Егоров… Егоровка исчезла, и фамилия «Егоров» утратила свой исторический смысл, стала как бы случайной и неустойчивой, как неустойчивым и случайным оказалось название нового поселка – Сосновка.
Нет, Егоров не драматизировал при переселении события так, как это делала тетка Дарья из Матеры, тогда им владело двойственное чувство: «И когда грянула весть о затоплении, когда подошел срок переезжать… признаться, Иван Петрович расставался с Егоровкой тяжело, не без этого, как всякий человек, имеющий память и сердце, и в то же время с тайным удовлетворением, что не он решил, а за него решилось, перевозил и ставил на новом месте он свою избу: там было хорошо, и здесь с годами должно быть лучше».
Но с годами лучше не стало, хотя, возможно, стало удобнее, но удобнее – это еще не значит, что лучше, во всяком случае, для таких людей, каким был Иван Петрович Егоров или его односельчанин Афоня. Идут эти немолодые мужики и беседуют, грустно беседуют:
«– Устал я, Афоня. Исстервозился. Сам видишь, никакого от меня толку.
– А Егоровка?
– Что Егоровка?
Думал, скажет Афоня: в нас она, в нас. Думал, начнет говорить, что уедем мы отсюда – и будто не было ее, Егоровки нашей, никогда, а пока здесь – и память о ней живет. Потому что и сам так же рассуждал. Но сказал Афоня:
– Найдешь ты место на воде, где стояла Егоровка?
– Не знаю. Прикину – найду.
– А я вот хочу нонешним летом знак какой поставить на этом месте. Что стояла тут Егоровка, работницей была не последней, на матушку-Россию работала».
Афоня высказывает не только свою мысль, но и авторскую, и эта мысль естественно находит живой отклик в измученной душе Ивана Петровича. У каждого из них болит душа, но болит в одиночку; общая душа, взращенная общим местом жизни, расщепилась, распалась с исчезновением Егоровки, но и по своем исчезновении Егоровка продолжает служить людям, памятью о себе она восстанавливает их духовные связи, исполняя теперь культурную миссию собирания общей души, без которой или в отдельности от которой человек нередко превращается или, лучше сказать, вырождается в архаровца.
Мне лично слово «архаровец» знакомо еще по довоенному детству, но затем в последующие годы оно как-то затерялось среди остальных старых и вновь появившихся слов и перестало что-либо обозначать. Изредка оно промелькивало в книгах, но в тех, что о давней жизни, к примеру, в «Краже» В. Астафьева, в которой рассказывается о детдомовском детстве тридцатых годов. И вот в повести «Пожар» оно вдруг обрело новую жизнь, наполнившись глубоким современным содержанием.
«За начальником, предчувствуя приказание, держалось несколько фигур из архаровцев, как называли в поселке бригаду оргнабора. И верно, не дойдя до вороха шагов пять, Борис Тимофеевич крикнул, не оборачиваясь, зная, что его услышат и поймут:
– Ломайте!
Архаровцы кинулись обратно: эта работенка была по ним».
Архаровцы, они как бы нигде никогда не живут, они лишь присутствуют в том или в другом месте, любое место для них случайно и не освящено ничем, кроме сулящей им долгой или короткой выгоды, причем чаще всего сомнительного свойства. Нет-нет, это не разбойники и не бандиты, но в силу беспутности и бесшабашности они не дорожат ничем, кроме минутного удовольствия, даже жизнь, в том числе и своя, не представляется им самоценной. Так, на пожаре, в общем-то, из-за ничего порешили архаровцы честного дядю Мишу Хампо, попутно отправился на тот свет и архаровец Соня. За пустяки рассчитались двумя человеческими жизнями.
Жизнь никогда не была идеальной ни в деревнях, ни в городах, всегда в ней находили свое место и воры, и пьянчуги, однако место их в жизни всегда было определено, они находились на отшибе жизни, идеал человеческого общежития вырабатывался помимо них, отталкиваясь в противоположную сторону от этого отшиба, где царствовали не чувства, а вечно всклокоченные страсти.
Жаль Валентину Распутину и Матеру, и Егоровку, что перестали быть на земле, но скорбит он не по затопленным деревням, а по той культуре общежития, что вырабатывалась веками и которая давала каждому духовную опору в самые лихие годины жизненных испытаний. Съехались люди из затопленных деревень в новое поселение, перемешались, и потекла новая, но какая-то странная жизнь…
«И не то плохо, что после смертей, свадеб, разделов и торгов одна деревня стала проникать в другую, жизнь невозможна без таких проникновений, а то пошло неладом, что взамен уехавших и унесенных принялись селиться люди легкие, не обзаводящиеся ни хозяйством, ни даже огородишком, знающие одну дорогу – в магазин…»
Магазин для подобных людей стал и клубом, где можно обсудить всякие всякости; и торжищем, где можно извлечь очевидную или мнимую для себя выгоду; и молельным домом, где можно покаяться в свершенных грехах, а заодно воодушевить себя на свершение новых. Страсти, распаленные хмелем, придают здесь дополнительную решимость и до предела возбуждают азарт. В хмельном экстазе человек окончательно теряет себя и отдается во власть общей злой воле. Но и это не самое страшное.
«Водились, конечно, пьянчуги, где они не водились на святой Руси, но чтоб сбиваться в круг, разрастаться в нем в открытую, ничего не боящуюся и не стыдящуюся силу с атаманом и советом, правящим власть, – такого нет, не бывало…»
Вот где источник непроходящей тревоги писателя, и эта тревога не позволяет ему в заботе о высокой художественности передоверять свои чувства, свою гражданскую боль и человеческую скорбь другим лицам, то есть героям собственных произведений, и писатель идет к читателю с прямым словом, которое мы и называем публицистикой.
Нет, нам, кажется, не дано ни о чем договориться окончательно, даже об очевидном. Спорим, спорим, вроде бы приходим к какому-то общему знаменателю, но это нам только так представляется, будто мы приходим к какому-то общему знаменателю, на самом же деле просто устаем и тогда делаем вид, что пришли к нему. Или нас отвлекут какие-то другие заботы, которые нам покажутся вдруг более важными, и мы опять сделаем вид, что уже приблизились к той истине, а на самом деле ни к какой истине мы и не приблизились, просто у нас возникло желание ввязаться совсем в другой спор. А случись какая-нибудь зацепка, и мы вновь вернемся к старому спору и вложим в него столько энтузиазма, что непосвященный невольно подумает: наверняка мы нечаянно открыли для себя и для остального мира совершенно свежую проблему, о которой прежде никто не догадывался. И начнется этот спор снова с нуля, и окончится он опять же нулем, то есть стоянием на той же дистанции от истины или хотя бы от общего знаменателя.
Да, современная проза сделала крен в сторону публицистики. Никто этого факта и не оспаривает. Но вместо того чтобы выяснять, почему тот или другой писатель обратился к прямому слову, и раскрыть содержание этого слова, мы вновь начинаем доказывать, что публицистичность идет во вред художественности и, дескать, «Прощание с Матерой» выше «Пожара», а «Пастух и пастушка» выше «Печального детектива». Нет, споры тут бесполезны. Лучше я приведу старые слова Достоевского. С одной стороны, у Достоевского есть проверенный временем немалый авторитет, а с другой – давность его слов укажет нам на давность возникшего нынче у нас споpa, а стало быть, определит и срок нашего очевидного топтания на одном и том же месте.
«Положим, – писал Достоевский еще в 1861 году, – что мы переносимся в восемнадцатое столетие, именно в день лиссабонского землетрясения. Половина жителей в Лиссабоне погибает; домы разваливаются и проваливаются; имущество гибнет; всякий из оставшихся в живых что-нибудь потерял – или имение, или семью. Жители толкаются по улицам в отчаянии, пораженные, обезумевшие от ужаса. В Лиссабоне живет в это время какой-нибудь известный португальский поэт. На другой день утром выходит номер лиссабонского «Меркурия»… И вдруг на самом видном месте листа бросается всем в глаза что-нибудь вроде следующего:
Шепот, робкое дыханье.Трели соловья,Серебро и колыханьеСонного ручья.Свет ночной, ночные тени,Тени без конца,Ряд волшебных измененийМилого лица,В дымных тучках пурпур розы,Отблеск янтаря,И лобзания, и слезы,И заря, заря!..…Не знаю наверно, как приняли бы свой «Меркурий» лиссабонцы, но мне кажется, они тут же казнили бы всенародно, на площади, своего знаменитого поэта, и вовсе не за то, что он написал стихотворение без глагола… Мало того, поэта-то они б казнили, а через тридцать, через пятьдесят лет поставили бы ему на площади памятник за его удивительные стихи вообще, а вместе с тем и за «пурпур розы» в частности… Стало быть, виновато было не искусство, а поэт, злоупотребивший искусством в ту минуту, когда было не до него. Он пел и плясал у гроба мертвеца… Это, конечно, было очень нехорошо и чрезвычайно глупо с его стороны; но виноват опять-таки он, а не искусство».
Мы в силу своей необычайной интеллектуальной развитости очень любим потолковать как о сложностях самого
Достоевского, так и о сложностях его произведений. А я вот подумал: чего стоят все эти наши толкования о сложностях, если до нас не доходит смысл самых простых вещей, о которых Достоевский писал в оправданной надежде, что его поймет, как мы теперь говорим, самый широкий читатель?
В. Распутин в своей повести «Пожар» показал нам, как разрушительно действует стихия столь привычного, управляемого нами в повседневной жизни огня, но это лишь одна сторона дела. Другая сторона – архаровщина, парализующая всякое общественное сопротивление любой общей беде. Пожар на несколько часов усилиями архаровцев сделал горящие склады как бы ничьими. Что из этого получилось – мы хорошо знаем. А вот земля, которая, как нам кажется, молчит, вот уже многие десятилетия пребывает в состоянии ничейной. Что из этого получилось, мы тоже хорошо знаем, но молчим и стараемся заглушить каждого, кто пытается возобновить с ней столь необходимый человеку диалог. Распутинский «Пожар» как бы предвосхитил трагедию Чернобыля и дал наперед определение тем, по чьей вине она произошла. Архаровцы – вот их общее имя, независимо от места, где они сейчас находятся, и независимо от положения, которое они сегодня занимают в обществе.
Впрочем, если уж говорить откровенно, то никто сегодня не требует ни от кого никакого «Шепота…». Это просто имитируют эстетические обмороки, когда слышат от писателей мысли, противоположные тем, которыми загружена собственная голова. Это так, для начала, падают в притворный обморок: «Ах, как нехудожественно! Ах, как нехудожественно!» А затем без всяких тонкостей и переходов выносят грубый и категорический приговор: «Раз ты думаешь иначе, значит, ты ретроград!» Что в переводе на современный политический язык означает – «противник перестройки». В стародавние времена подобный прием назывался «апелляцией к городовому», нынче он никак не обозначается, видимо, ввиду того, что получил слишком широкое применение, но не получил равнозначного общественного осуждения.
Но как все-таки прекрасно устроен человек: что бы там ни происходило, а он упорно верит в светлое будущее, если и не в собственное, то в общечеловеческое. Коли порой и впадаешь в губительный скептицизм, то на смену ему непременно приходят спасительные надежды. Сейчас мы надеемся, что если не завтра, то в скором будущем навсегда исчезнут из нашего лексикона слова: «дефицит», «очередь», «пьянство», «хамство», «демагогия», «бюрократизм», «взяточничество», «протекция», «коррупция» и т. д. Пусть не сразу, но когда-нибудь мы все же сумеем преодолеть, нет, не трудности (без них и без их преодоления и настоящую жизнь как-то трудно представить), а те жизненные неудобства, что делают жизнь не столь трудной, сколь унизительной. И такой ее делают архаровцы, но не только те, что сбиваются в ватаги возле общедоступных магазинов, о чем писал В. Распутин, а и те, которые нигде не толпятся, они даже вроде бы рассеяны, но это только так, для видимости. Общая задача или общая опасность стягивает их, как магнит булавки.
Общественный подъем второй половины пятидесятых и начала шестидесятых годов вызвал у архаровцев-демагогов неподдельную тревогу и многому их научил. Энтузиазм ими был проявлен завидный…
Не возьмусь утверждать, что неудовлетворительность общеобразовательного дела, которое мы замучили постоянными нововведениями сверху, связана лишь с неутомимой деятельностью архаровцев из Академии педнаук, но так или иначе, а вот уже долгие годы неумолимость школьных программ отбивает у учителей всякую охоту к творчеству, а у учеников гасит естественную в их возрасте любознательность. Скука и формализм, кажется, обрели в школе постоянную прописку.
Хотелось бы спросить у наших, обремененных высокими академическими званиями, медиков: «Почему врач из творца по преимуществу превратился по преимуществу в чиновника? Почему современную медицину покинуло элементарное милосердие и как уживается клятва Гиппократа с нынешней строго соблюдаемой иерархией медицинского обслуживания?» А может быть, Академия медицинских наук давно уже на каком-нибудь своем соборе эту клятву отменила как пережиток языческих времен?
Не наберусь смелости утверждать, будто «продовольственная проблема» своим появлением на свет обязана исключительно деятельности Академии сельскохозяйственных наук, однако, когда регулярно приходится посещать продовольственные магазины, может возникнуть и такая неосторожная мысль.
А вот и главный Храм науки… Но о нем я высказываться поостерегусь, ибо не располагаю точными сведениями, насколько подлежит буквальной и универсальной практической интерпретации заповедь: «Наука требует жертв».
Я отдаю себе отчет в том, что современное общество и современное государство не могут нормально функционировать без различных управленческих систем. Настоящим злом та или иная система становится лишь тогда, когда перерождается в бюрократическую. Бюрократ, то есть чиновник-архаровец, – вот творец, он же и пользователь смертоносного для общественного прогресса оружия – демагогии. Убивая мысль, убивая животворящее чувство, демагогия не только заглушает в человеке всякое творческое начало, но и порождает тот испуг, когда каждый начинает бояться каждого, а порой даже и самого себя.
Конечно, не следует каждого управленца считать бюрократом. Бюрократ – это управленец-архаровец любого ранга и любой системы, не обремененный государственным мышлением. А если эту формулу упростить до обыденного сравнения, то бюрократ более всего схож со спекулянтом, то есть архаровцем без маски, продающим вещи по «двойной цене». Только торгует бюрократ не вещами, а правами. А главное: создавая искусственный правовой дефицит, бюрократ лишает нас законных прав от имени государства, а если «выдает» их нам, то делает это уже от собственного имени, как тот спекулянт, что в режиме товарного дефицита «выручает» нас за «двойную цену». Различны лишь подробности, а механизм один и тот же.
«Если бы ты, Диоген, умел поклоняться богатым, тебе не пришлось бы довольствоваться хлебом и водой», – увещевал Аристипп.
«А ты, Аристипп, если бы умел довольствоваться хлебом и водой, тебе не пришлось бы кланяться богатым», – отвечал ему Диоген.
Философия Диогена может спасти в случае со спекулянтом, а в случае с бюрократом едва ли. Без особого ущерба для собственного достоинства можно «довольствоваться хлебом и водой» – во время минувшей войны унижали не лишения, а поражения на фронтах. Но нет и не может быть такой высокой цели, во имя которой следовало бы отторгать в чью-либо пользу гражданские права.