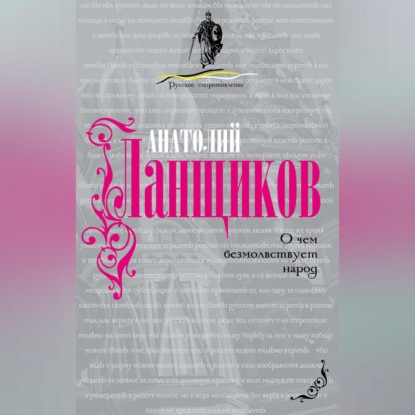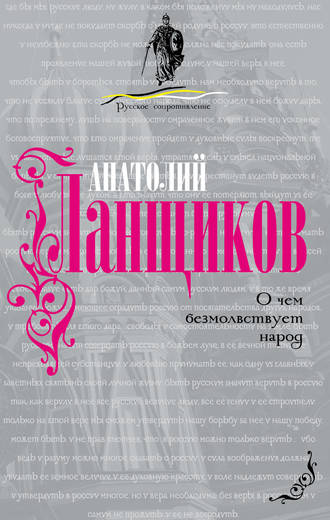
Полная версия
О чем безмолвствует народ

Анатолий Ланщиков
О чем безмолвствует народ
Издано при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям в рамках Федеральной целевой программы «Культура России»
Составители:
С. С. Куняев, А.М. Разумихин
«По законам высшей справедливости»
Основание жизни народной – есть убеждение…
И. В. КиреевскийВо всем виноват я – не удержал книгу.
Именно в тот день зачем-то взялся наводить порядок на полках домашней библиотеки. И вот стою на лестнице-стремянке, перебираю томики, протирая их корешки и обрезы. Как, почему из рук вырвался один из них? Синий переплет точно взмахнул крыльями, но не взлетел, а рухнул вниз.
Удивительное дело, сколько шума наделало падение этой, в общем-то не очень толстой, книги. Из соседней комнаты на него даже прибежала жена.
– Что случилось? – увидела, подняла и, взглянув на обложку, протянула мне. Только отчего вдруг замедлилось движение руки и дрогнул голос? – Ланщиков… Не к добру… Плохая примета…
А я лишь отмахнулся:
– Скажешь тоже!
…На следующий день во второй половине дня раздался телефонный звонок, я взял трубку.
– Да! Привет! Рад тебя слышать… Ой!.. Прими наши соболезнования… Конечно. Обязательно. Где? Во сколько? Ты только держись. Чем могу помочь? Кому еще позвонить?.. До завтра… Мужайся.
Кладу трубку и вижу все понимающие глаза жены.
– Анатолий Петрович? – Она даже не произносит слово «умер», и так ясно. – Я же сказала «не к добру».
Потом выяснится, что книжка из моих рук упала именно в то время, когда кончилась «череда окаянных дней», отпущенных судьбой Анатолию Петровичу Ланщикову. Хотите, считайте – мистика, хотите – дело случая. Но совпало!
…Нас свел Юрий Селезнев. Я тогда пришел в «Молодую гвардию», и мы сидели в его кабинете заведующего редакцией «ЖЗЛ». Только на сей раз все было наоборот. В его редакторском кабинете редактором был я, а Юра был проштрафившимся автором. Он обещал мне написать в очередной журнальный номер «Литературы в школе» статью, но срывал сроки. Я, как мог, нажимал на него. Тут-то порог кабинета и переступил незнакомый мне человек. Селезнев воспользовался моментом и переключил разговор. Он представил нас друг другу.
Зачем тогда Ланщиков, а это был он, пришел к Селезневу – не помню, врать не буду. Но в конце встречи речь зашла о том, что Анатолий Петрович и Игорь Золотусский на пару будут вести от Союза писателей семинар по тем временам молодых критиков. Ланщикова беспокоил будущий состав участников семинара:
– Складывается так, что по тому, откуда и от кого приходят первые семинаристы, общая картина получается скверная. С той стороны пока молодых больше. Нужно подобрать нескольких, – сказал он, – своих и крепких ребят. Чтобы все было на равных. Завтра от них будет зависеть будущее критики.
И Селезнев предложил ему меня, добавив всего одно слово: «Ручаюсь!» Так судьбе стало угодно, что из селезневского кабинета мы с Ланщиковым вышли вместе.
На тот момент я ничего не знал о нем, а он – обо мне. Его первый вопрос был:
– Москвич? Откуда родом?
Я ответил, что корни московские и саратовские, а по отцу еще и ржевские, но родиться довелось в Хабаровске, в погранотряде Амурской речной флотилии. Потому как из семьи кадрового морского офицера. Пошутил про самого себя:
– Дед – капитан первого ранга, отец – капитан третьего ранга, а я выродок – в армии «служил» всего три дня. Полная деградация, гуманитарием стал. Хотя, должен признаться, читать, писать полгода учился, живя у отца на сторожевом корабле, стоявшем на рейде в бухте Золотой Рог Владивостока.
По его реакции понял, что мое происхождение ему очень даже глянулось. Позже от Анатолия Петровича доведется узнать о военных корнях его самого: о суворовском училище, об офицерской службе.
А я тем временем продолжаю, что в Москву приехал из Саратова, куда наша семья переехала после демобилизации отца. Там окончил школу и филфак университета.
– Любопытное совпадение, – говорю ему, – потому как один мой дед родом тоже из Саратовской губернии.
И слышу в ответ:
– Так мы земляки.
Кажется, именно эти три фактора: рекомендация Селезнева, происхождение из потомственных военных и землячество – нас как-то сразу сблизили.
Буквально на другой день я продолжил знакомство – начал читать небольшой сборник статей Ланщикова «Времен возвышенная связь» и сразу понял… как говорил один из моих любимых киногероев в исполнении Леонида Быкова: «Споемся!»
На вопрос, что такое критик, всякий знающий – с юмором, конечно, – прежде всего ответит: «Это не профессия, это состояние души». Состояние души, какой был наделен Анатолий Петрович, не капризной и не жестокой, внемлющей доводам разума и голосу естественного чувства, стремящейся к самостоятельности и свободе от рабской зависимости, ему не только позволило, а просто-таки предопределило, обратившись к литературе, быть критиком. Спорить, доказывать, объяснять, или, как еще говорят, формировать общественное мнение. Он это делал всегда. Даже тогда, когда об общественном мнении и не заикались.
Не случайно себя и своих сверстников, чье детство совпало с войной, он как-то назвал «спорящим поколением». «У меня вообще создается такое впечатление, – признавался Ланщиков в 1980 году, – будто мы проспорили всю свою жизнь». Мотивы, по которым то тут, то там вспыхивала жаркая, до драки, полемика, разумеется, были разные. Впрочем, и ценности при этом отстаивались спорящими, само собой, противоположные. Одни на первый план выдвигали «исповедальную» прозу, другие – «деревенскую». Одни ратовали за прогресс, другие взывали к нравственности. Одни цитировали Хемингуэя и Кафку, другие ссылались на Глеба Успенского и Достоевского.
Так что Ланщикову, что называется, на роду было написано спорить, например, с теми, для кого слово «новаторство» оказалось высшей и чуть ли не единственной похвалой, а слово «традиционность» – синонимом отсталости и бесталанности.
Я открываю его работу середины 60-х, где он размышляет о моде и современности: «У моды свои законы этики и эстетики, а в понятие хорошее или плохое она не вкладывает никакого иного содержания, кроме как: новое и старое. Новое – хорошо уже только потому, что оно не старое, старое – плохо уже потому, что оно не новое».
Сознаю: если уже тогда, в 60-е, он посчитал нужным бескомпромиссно обозначить, что «новое – это еще не значит истинное», то в представлении, какое нам сегодня навязывается, будто поколение шестидесятников состояло исключительно из демократов и либералов, сплошь устремленных на общечеловеческие ценности, притворства ничуть не меньше, чем в былых партийных заботах коммунистов, руководствовавшихся в своих действиях не законами, а сложившейся практикой, точнее, целесообразностью, или в современных «заботах» власть предержащих о судьбах народных.
Порой, читая Ланщикова, можно было подумать, что куда больше настоящего, тем паче будущего, его волнует прошлое. И эти мысли возникают не только от работ, рожденных в пору «окаянных дней» 90-х, но уже от статей давних 70-х, достаточно взглянуть на его заметки о деревне и «деревенской» прозе. Действительно, полемизируя с суждениями дня нынешнего, Анатолий Петрович часто опирался на аргументы и факты дней давнишних. Исходил при этом из двух принципиальных для него «постулатов»: до нас люди жили тоже отнюдь не глупые, и «прошлое – это наша корневая система, и его страшится лишь тот, кто не верит в историческую перспективу сегодняшнего дня».
Попутно замечу: и тогда, и ныне, читая его размышления о «старой» и «новой» деревне, я поражался, как этот сугубо городской человек с армейской «начинкой» умел, нет, не любить землю и деревню, а понимать людей, живущих на земле, и их предпочтения.
Чаще всего его критические выступления – это статьи «на случай». Как он говорил: «Мне надо за что-то зацепиться или от чего-то оттолкнуться». Почти каждая его работа – это своеобразный ответ на внешний импульс. Значит, что-то царапнуло в душе, задело, и он не смог смолчать. Он предпочитал не писать, если такого раздражителя не возникало. Анатолий Петрович без тени шутки говорил о себе по этому поводу: «Я какой-то не профессиональный критик. Меня надо раздразнить, тогда я сажусь писать. А в остальное время предпочитаю читать».
Ланщиков был из той редкой породы критиков, которые любят читать не потому, что позвонили из редакции и заказали рецензию на книгу, статью в журнал, или чтобы быть «в курсе происходящего», он любил чтение как таковое, любил читать «ненужное», несовременное, ему нравилось находить чужие мысли, в которых чувствовалась умственная самостоятельность. А в последние годы, когда и жены не стало, и Светлана, дочь, выросла, стала самостоятельной, и за окном стояла «ненастная эпоха», для него и вовсе ничего не было лучшего, как сесть за письменный стол и читать. Замечу, он читал внимательно и, как говорится, с чувством, больше того, я даже сказал бы, с величайшим уважением к слову. Так редко даже профессионалы читают.
И это, говоря его собственными словами, «не было простым накопительством сведений или приобретением простой эрудиции, это была жажда познать мир во времени и в пространстве и таким образом постигнуть его закономерности».
Казалось бы, в том, что он писал, нет столь важного для литературы – бесцельности, того, что называется общностью на все времена. У Ланщикова все, наоборот, имело конкретную цель и, следовательно, написано вроде как бы для конкретной минуты. Но значит ли это, что отошла минута и статья увяла, морально устарела? Ничуть! Время идет, а написанное им по-прежнему плодоносит. Потому что писалось не для минуты, а для жизни.
И надо ли удивляться, что многие пассажи, рожденные литературной полемикой в каком-нибудь 1969 году, читаются сегодня, сорок лет спустя, как обращенные к иным современным авторам, любителям политических и нравственных обвинений: «Поговорил, скажем, критик А. о том, что по каким-то причинам не устраивает критика Б., смотришь, последний «воздвигает» какую-нибудь фантастическую концепцию и, пользуясь первым же случаем, приписывает ее своему литературному противнику. Затем критик Б. принимает патриотическую осанку и начинает громить критика А. и притом не столько как критика, сколько как человека. И тут уже сложилась своя модель. Сначала щедро выдаются «комплименты», порой граничащие с прямыми оскорблениями. Второе условие – наличие в обвинениях «политических полунамеков». В-третьих, критику А. подыскивается «реакционный предшественник», а потом, естественно, следуют соответствующие «выводы».
Начиная с самых ранних публикаций (можно обратиться к его знаменитой молодогвардейской статье «Осторожно – концепция!»), легко увидеть, как он относился и к «друзьям», и к «врагам». Игнорируя распространенную формулу: «свой» всегда прав, а если даже не прав, то об этом не говорят вслух, Ланщиков (редкое качество) оставался верен себе, и потому, не давая спуску «чужому» Ю. Суровцеву за его политическое проституирование, не проходил мимо ошибочности методологии «своего» В. Чалмаева.
Я не стану здесь подробно излагать изящные диалоги с оппонентами, какие выстраивал Ланщиков, мастерски владевший техникой боя на поле своих противников (методологии социалистического реализма) и даже их оружием (цитатами из ленинских работ, которые он умел прочитывать не догматически). Хочу лишь обратить особое внимание на то, что он не был ортодоксальным критиком. Он умел и любил мыслить, вдумываться и вообще лезть вглубь, сопоставлять и оценивать реальное положение в конкретной ситуации. При этом в своем анализе он предпочитал называть вещи своими именами, не допуская заведомых передержек и всегда следуя соотнесению литературного процесса с действительностью и верностью исторической правде. Ланщиков, как мало кто другой, умел вчитываться и читать не только между строк (есть и такие мастера). И после прочтения, если оно его «зацепило», он не брался выстраивать риторические фигуры, а ставил точный и порой беспощадный диагноз. Это был критик особой специализации, он не занимался «лечением», он умел находить, определять, что у человека и общества «болит».
А еще, на мой взгляд, он был не просто спорщиком, а замечательным спорщиком. Он начинал спорить с Чернышевским, и из этого спора выходила прекрасная книга о писателе-революционере. Он начинал спорить с убедительной работой Андрея Баженова «К тайне «Горя», и в результате этого спора на свет появлялась чудесная статья «Горе от ума» как зеркало русской жизни». Он брался спорить с Петром I, и возникал цикл его блестящих статей о исторических путях России. Такая вот была природа его критического таланта.
Не могу не сказать, Ланщиков был силен именно тогда, когда спорил, а не тогда, когда брался обличать. В 90-е годы он изменил себе и ушел в политику. Результат оказался предсказуем – многие его публикации наполнились атрибутами, далекими от литературы и приняли форму агитпослания. Однако в этом жанре он не преуспел. Тут важно понять, почему не преуспел. Мне кажется, дело в том, что в нем отсутствовали пренепременные компоненты для создания подобного рода вещей – его натуре были противны политиканство и демагогия. Он и в советские-то времена ими не грешил. А без этого, во-первых, ни в вожди, ни в помощники вождей всякого пошиба ты ну никак не годишься; во-вторых, отношение к тебе всегда будет соответствующее: какой-то ты вроде бы и «наш», но все же странный. Что-то вроде «попутчика».
Что греха таить, демагогов хватает и хватало во все времена, и в чести они во всех лагерях: и в тех что «справа», и в противоположных – «слева». Поэтому достаточно перечитать сегодня статьи из раннего Ланщикова – «Лицом к действительности», из зрелого – «Капитан», из позднего – «Апостолы и жертвы сиюминутного», и сразу понимаешь, почему о Ланщикове всегда шла «слава» неудобного критика. Я говорю «всегда», потому что таким он был, начиная с первой своей книжки «Времен возвышенная связь» и до ставшей последней «О пользе праздного чтения». До такой степень неудобный, что даже, когда его не стало, в редакции одного журнала, напечатавшего заметки о нем в годовщину смерти, раздался звонок известнейшего критика-соратника из «своих» с недоуменным вопросом, а кто, собственно, такой Ланщиков, чтобы его вспоминать и о нем писать.
Но если уж выделять какую-то главную, ведущую черту Ланщикова-критика, то я назвал бы прежде всего его последовательность. Поэтому нет ничего удивительного в том, что, обосновав свой взгляд на проблему и поставив в 1969 году памятный многим диагноз: «Осторожно – концепция!», он, исходя из тех же убеждений, ничуть им не противореча, даст 1994 году блестящий историко-литературный анализ в статье «Ледокол» идет на таран».
Поэтому поговорим о том, где он сумел сказать свое весомое слово. Истинный писатель, а Ланщиков им был, уже в появлении своем непредсказуем. Он поздно пришел в литературу. И если есть такая профессия «Родину защищать», то, сняв офицерские погоны, он и в литературе оставался ее защитником.
Он защищал ее всегда:
и когда писал об этике и эстетике «исповедальной» прозы, и когда говорил о деревне и «деревенской» прозе, и когда показывал, что идеи Чернышевского имеют корни в таящемся в глубинах морального сознания крестьянина, который никогда не считал себя рабом, чувстве несправедливости такого положения, когда помещик, не служа государству, царю, остается господином,
и когда заявлял, что «не следует бить поклоны в сторону перестройки по каждому поводу, излишний словесный энтузиазм, не подкрепленный очевидным делом, как показала многолетняя история, далеко не всегда свидетельствует, говоря аккуратно, в пользу искренности намерений»,
и когда углублялся в прошлое, делая это по двум причинам: во-первых, исходя из того, что «прошлое освещает дорогу в будущее»; во-вторых, следуя своему убеждению, что «тот, кто сегодня покидает литературу и уходит в историю, по сути дела уходит на передовую».
При этом Ланщиков, замечу, никогда не ориентировался ни на правых, ни на левых, ни на западников, ни на славянофилов, ни на диссидентов, ни на «литпартийцев», ни на консерваторов, ни на новаторов, ни на дураков, ни на умных. Анатолий Петрович предпочитал, прочитав или выслушав любого, подумать, обмыслить и лишь затем сказать четко и ясно: «Мы должны ориентироваться на собственную историю и извлекать из нее уроки, ибо кто контролирует прошлое, тот реально держит власть в настоящем и имеет все предпосылки сохранить ее в будущем».
А еще, примечательно, он не хотел и не стремился делать вид, что серьезнее самого Гегеля. Даже тогда, когда высказывал суждения по самым общим, всеохватным проблемам бытия. Он был одним из немногих литературных критиков, кто мог себе позволить выступать в печати по вопросам и литературы, и культуры, и истории, и политики, и геополитики.
В мире, где царило обилие идеологических ярлыков, обвинений и фальшиво-патетических ссылок на бессмертное наследие известных партийных классиков, где «своим» прощалось все, «чужим» – ничего, беспартийный Анатолий Ланщиков умудрялся оставаться самим собой и отстаивать свои убеждения. Он последовательно воплощал, как заметил один из его товарищей, «устремленность к осмыслению современной литературы и жизни в свете многовековой истории, притом не в духе эффектных экскурсов в прошлое, а на основе серьезного его изучения и понимания».
По сути у него не было единомышленников. Главным образом потому, что он не признавал нравственных компромиссов. Тогда как некоторые его «единомышленники» в тех или иных ситуациях считали возможным склониться и даже наизнанку вывернуться перед властью, дабы, войдя в нее, считалось, потом сделать что-то хорошее. Только у «кормушки» они начинали чувствовать себя так хорошо – склонившись, даже удобнее, – что лучшего, оказывалось, им и не надо.
Он в чем-то сходился, но всегда в чем-то расходился даже с теми, с кем шел в одном направлении. Даже с ними он вечно умудрялся идти «не в ногу». Вот только и друзья, и враги произносили его имя всегда с чувством: одни с уважением, другие с ненавистью до головокружения и тошноты, по их собственному признанию, но в любом случае безразличия не было.
Здесь следует добавить…
Ланщиков не был пророком-просветителем, как Вадим Кожинов.
Он не был пунктуально-вездесущим мастером парадоксов как Лев Аннинский.
Не был литературоведом среди критиков и критиком среди литературоведов как Игорь Золотусский.
Не обладал талантом с улыбкой на интеллигентном лице прятать фигу в кармане, как Владимир Лакшин.
Анатолий Петрович никогда не самоутверждался, как многие из его коллег, зато помогал утверждаться и самоутверждаться другим.
В его письме не было блеска профессионального литературного критика, способного легко и просто писать по принципу «сегодня в газете, завтра в куплете» или «Чего изволите?».
Обычно на вопрос о творческих планах он отвечал, что их… нет, но есть настоятельное желание привести в порядок собственные мысли.
Как критик он не заботился о количестве своих почитателей, его интересовало качество его читателей.
А еще он не был, как это распространено среди литераторов, амбициозен. Это качество не наблюдалось у Ланщикова ни в 1967 году, когда он однажды не сдержался, публично выразив свою обиду за свое поколение: «Мы вот тоже уже приближаемся к 40-летнему рубежу, а нас по-прежнему продолжают величать «молодыми»; ни в середине 1980-х годов, когда заговорили, что Ланщиков превратился в лагере «консерваторов» чуть ли не в культовую фигуру.
Не был… не был… Другое важно – он был. И им двигал… Короче, он был из тех людей, кто наделен чертой, деликатно называемой азартом. Он всегда был благородным возмутителем спокойствия. Энергичным, упрямым, дерзким и своевольным.
Издательство заказывало ему книгу о Чернышевском – он соглашался и… влезал в крестьянский вопрос в России.
Власть и элита, еще не отойдя от перестройки, затевали новую революцию (или контрреволюцию, кому как больше нравится), а Ланщиков углублялся, как он считал, в самое насущное – в национальный вопрос в России.
Самая читающая страна расхватывала на ура повести Дарьи Донцовой и Юрия Полякова, а для Ланщикова в это время приоритетом становился разбор фальсификаций о Второй мировой войне.
Следуя пушкинскому «в просвещении стать с веком наравне», критик Ланщиков постоянно искал ответы на такие вечные и всегда современные вопросы: «Кто виноват?», «Что делать?» и «Будет ли существовать Россия?» Он так жил!
Он искал свой человеческий путь, идя дорогами Петра Первого, Пушкина и Гоголя, Герцена и Чернышевского, Сталина и Гитлера, Шукшина и Астафьева, Рубцова и Жигулина.
По большому счету, его мало волновало литературное закулисье – ни во времена партийного жесткого построения писательских рядов, ни в пришедшие им на смену разухабистые годы либерально-глянцевой вседозволенности. Он в литературе искал благородство, достоинство и соответствие предназначению великого народа. Радовался, когда находил. Был беспощаден, когда встречал вместо достоинства литературное мошенничество, холуйство, трюкачество, историческую ложь. Но и в таких случаях его критическое слово никогда не было злобным.
В нем самом ощущалось благородство. Не то внешне показное благородство, что отдает снисходительностью к другим, одаренным меньше или оказавшимся неправыми, а совсем иное, в котором чувствуется порода и понимание, что каждый заслуживает справедливости.
С завидным мастерством он писал и о прозе, и о поэзии, и о драматургии, и о работах своих коллег-критиков, причем, произведения классиков интересовали его ничуть не меньше написанных современными авторами. Но, смею заметить, литература всегда интересовала Ланщикова не сама по себе, а прежде всего как явление духовной жизни в великой истории великого народа.
Он искал если не единомышленников, то хотя бы собеседников, но и их находил, увы, не всегда. И оттого любой мог заметить налет грусти, сопровождавшей его по жизни даже в минуты, когда он чувствовал себя счастливым.
Сегодня можно услышать, что семинар молодых критиков Анатолия Ланщикова, несколько лет собиравшийся в ЦДА, а затем продолживший работу на его квартире, стал символом несгибаемости в деле просветительства.
Прямого воздействия на наше сознание Ланщиков, я бы сказал, избегал. Зато он не прочь был заняться нашим воспитанием. Воспитывал собой, всем, что у него было – образом мыслей, манерой поведения, отношением к делу, отношением к каждому из нас. Показывал, как надо «держать удар», когда бьют; как драться, когда схлестнулся в споре, и при этом сознавать, во имя чего? на какой стороне ты бьешься: за народное или за элитарное? И мы видели, осознавали, что будь ты хоть самым известным, опытным критиком, мастером в своем деле, напиши ты хоть сотни рецензий и статей, выпусти десятки книг, все равно, берясь за новую работу, каждый раз перед тобой неизвестность: что из этого выйдет? Причем, с первого слова, как правило, ты начинаешь «с нуля», будто только еще учишься писать. Словно впервые переступил порог и попал в новый для тебя и мало знакомый тебе мир… Мир иных жизней и иных мыслей – отличных от твоих.
…Последнее время мы с Анатолием Петровичем иногда перезванивались, не могу сказать, что часто. Виделись и того реже. В середине 1990-х годов по Москве пошли разговоры, что Ланщиков от критики практически отошел. Мол, сам признался, что если что и читает, то в основном подаренные ему книги, но писать что-то о прочитанном никакого желания у него уже нет.
Беллетристика той поры Ланщикова действительно увлечь не могла. И он углубился в историю. Почему? Зачем? Ответ можно найти в его обширной и глубокой аналитической статье, увидевшей свет под названием «Ледокол» идет на таран». Есть там простые слова, совсем по-домашнему сказанные одному из авторов: «Неужели только учась в академии, Вы впервые обнаружили, что историкам врать не привыкать?.. Я, например, гораздо больше удивляюсь, когда историк говорит правду». Речь шла на больную для Анатолия Петровича тему фальсификаций о Второй мировой войне. А объяснял критик модному романисту незамысловатую истину, что документы, как и люди, бывают порой честными, а чаще неизбежно пристрастными, и если их скомпоновать в заранее выстроенную концепцию, то правды не жди, выйдет одна лишь ложь, которая способна лишь дурачить людей.
Как-то мне на глаза попалась, года через четыре после ее появления в журнале «Литература в школе», одна из последних его статей о классике – «Горе от ума» как зеркало русской жизни». Я зашел к нему, чтобы уговорить написать в серию, какую я в ту пору как редактор задумал и реализовывал в одном из издательств, небольшую книжку о «Горе от ума».