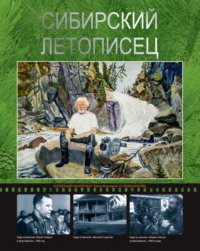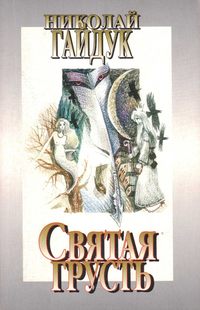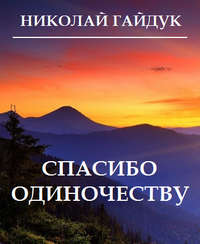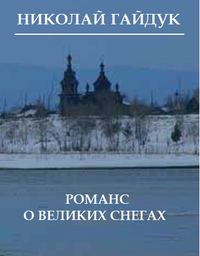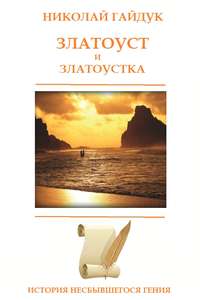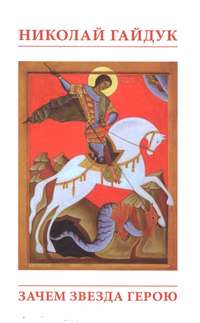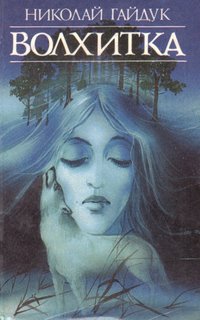Полная версия
Царь-Север
– Эй, ты! – неожиданно крикнул Царь-Север. – Ты живой или помер?
Встряхнув головой, Храбореев маленько прочухался.
«Это кто? – подумал он. – Это Канюшина снова разорался?..»
Да, это бригадир кричал неподалёку. Поторапливал.
На мгновенье выходя из забытья, Храбореев снова погружался в свой удивительный сказочный мир. Стоял – не слышал того, что рядом. В него бросали осколок льда. И всё равно Северьяныч не реагировал.
Мужики в бригаде переглядывались.
– Чего это он? – говорили вполголоса. – Стоит, будто кол проглотил!..
– Эй, дядя! – снова кричал Канюшина. – Проснись и пой!
И, наконец-то, вздрогнув, Храбореев поворачивал голову. Незрячими глазами смотрел по сторонам.
– Ну его к чёрту… – Бросая ледяной кусок, говорил он, ни к кому не обращаясь, на карачках выползая наружу.
Казимир, задирая рукав, демонстративно смотрел на часы.
– Не понял юмора. Три минуты поработал и перекур? Так, что ли? Стахановец.
– Так! – утомлённо отвечал Северьяныч.
– Это что? Саботаж? – «бугор» пытался говорить повеселее, чтобы не осложнять отношения.
– Саботаж, саботаж… – машинально соглашался Храбореев.
Бригадир, принимая это на свой счёт, заводился.
– Ты не сачкуй! Работай! Все пашут, а он…
– Работа не волк.
– Правильно. У нас работа – рыба. Так что хватит…
– Не ори.
– Иди, работай, говорю.
– А я говорю: не ори.
Неспешно вынимая папиросы, Храбореев прикуривал, задумчиво глядя на спичку. Отворачивался от бригадира. Вернее – от майны, чтобы душу не травить «ледяной могилой». А бригадиру казалось – это он нарочно зад показывает. «Сука! Я тебе припомню саботаж!»
Перекурив, пересилив себя, Северьяныч опять спускался в ледяной забой. Остервенело рубил топором-ледорубом, колотил пешнёй, вгрызаясь в голубовато-изумрудные глубины. Пешня мелькала – трудно проследить за ней. Добела отполированный наконечник с такою силою втыкался в каменную глыбу льда – горячие искры вот-вот полетят… Но через несколько минут Храбореев снова замирал, широко раззявленными глазами проваливаясь в могильный морок мёрзлого озера. Теперь ему казалось, что это Колдовское, в котором он ищет сына.
Заподозрив что-то неладное, Канюшина стал говорить спокойно, даже с сочувствием:
– Да что это с тобой? Опять полез наверх? Или тебе не здоровится?
Молоденький Плацуха, без году неделя работавший в бригаде, желая «прогнуться» перед начальством, громко сказал:
– Бугор! Да понос у него! Чо тут думать?
Артельщики зареготали.
Глядя на весёлую, будто салом смазанную, физиономию молоденького подхалима, Храбореев взорвался. Схватил пешню, метнул – точно копьё. Полыхая наконечником, пешня со свистом прострелила по-над ухом изумленного парня – на вершок воткнулась в лёд, разбрызгивая звонкие стекляшки.
– Щенок! – сквозь зубы сказал Храбореев. – Я в следующий раз не промахнусь!
Плацуха побелел, попятился и, едва не упав, на трясущихся ногах отбежал подальше.
– Сволота! – закричал, срываясь на фальцет. – Бугор! Ты видел? Покушение на жизнь. Статья двести семьдесят семь! Да я тебя, подлюгу, засажу лет на…
– Ах ты, гнида… – Северьяныч пошёл – с кулаками наперевес.
Атаман зашевелился. Встал на защиту.
– Уймись! Больно горячий! – Навалившись сзади на Северьяныча, бригадир засопел. Руки стал выкручивать.
– А ну, пусти, бугор!
– Не ерепенься!
– Пусти, сказал. По-доброму прошу.
Казимир пригрозил:
– Я пущу! Дам коленом под ж…, будешь катиться до самого до этого… до Бледовитого океана.
Мужики опять захохотали, довольные; ловко, мол, управился бугор, заломил салазки Северьянычу. Но Храбореева не так-то просто одолеть. Бородатое лицо его налилось кипящей кровью. Он присел и неожиданно распрямился – точно сработал железный шатун на железных суставах.
Тяжелая туша артельного атамана легко взлетела в воздух, беспомощно болтая руками и ногами. Казимир чуть не ухнул в майну – вниз башкой.
Артельщики так и застыли – как будто подавились хохотом. Потом они гурьбою подскочили к Северьянычу. Рыча и матерясь, повисли на нём, угрожая:
– Остынь! А то мы тебя в майне замуруем!
Эти угрозы только раззадорили его.
– Успокойся, Нюра! Это десантура!
Бешено сверкая раскалённым взглядом, он раскидал матёрых мужиков, точно котят. Взял пешню наперевес и занял оборону возле майны – встал таким образом, чтобы с тылу подойти не могли. Но никто ни спереди, ни сзади в эту минуту даже и не думал подходить – нарываться на верную смерть. Мужики демонстративно отвернулись, делая вид, что никакого дела им не было и нет до этого придурка.
Он постоял, хрипя от напряжения. Разбитою верхней губой попытался дотянуться до носа. Потом шумно сплюнул бригадиру под ноги, бросил пешню и устало, медленно побрёл, куда глаза глядели.
Увязая в сугробах, спотыкаясь о льдины, торчком вмороженные в озеро, дошел до упора – до чёрной скалы, угловатой, изрядно изъеденной временем. Ветер, остро воющий на вершине скалы, не давал закрепиться ни деревцу, ни кустику – сбривал самую малую былинку.
Упираясь разгорячённым лбом в холодный голый камень, Храбореев заметил торчащий из трещины стебель незнакомого засохшего цветка, обряженного мохнатой изморозью. Остывая от сокрушительной ярости, он рассматривал мёрзлый цветок. Слушал, как горячее дыхание трещит и превращается в труху. Значит, завернуло под пятьдесят – выдыхаемый воздух смерзается и потрескивает при минус сорока пяти.
Отойдя от скалы, Храбореев остановился. Присел на камень, давней грозою отколотый от скалы. Тоскливо смотрел и смотрел на далёкие заснеженные горы. Смотрел и думал: там, за хребтами, на высокогорных тундровых пастбищах зимуют стада оленей, чтобы весной устремиться к берегам океана, оленят рожать в прохладных и зелёных тундровых привольях, где нет ни мошкары, ни калёной летающей «пули» под названием шмель.
Где-то в горах приглушенно гавкнул выстрел, – гулко раскатился в морозном воздухе. Белая былинка, стоявшая неподалёку от Северьяныча, – словно белая нитка, унизанная стеклярусом, тихонько покачнулась, отзываясь на движение воздуха, – пушинки инея косо и лениво поплыли по студёному пространству, чтобы через несколько секунд бесследно раствориться в тишине.
И Северьяныч вдруг улыбнулся. Его осенило. Разбитая губа, потревоженная улыбкой, закровоточила ещё сильнее. Сплюнутая кровь, замерзая, покатилась брусничной ягодой.
Возвратился он примерно через полчаса.
– Всё! – миролюбиво сказал, обращаясь ко всем. – Прости, атаман. И вы, казаки, не серчайте…
– Бог простит, – угрюмо ответил бригадир, почёсывая поясницу. – А премиальных тебе не видать, как собственных ушей!
Северьяныч улыбнулся, зачарованно глядя вдаль.
– Премиальные теперь я сам себе буду выписывать.
– Да? – Канюшина глаза увеличил. – Это как же?
– А так – одной левой.
– Ну, ну, посмотрим…
И снова Храбореев улыбнулся.
– Нет, бугор, ты не увидишь.
– Это почему?
Храбореев шапку снял, пригладил потные волосы.
– Слышь, бугор, – сказал он, глядя в небо. – А когда вертушка прилетит?
– Завтра. – Канюшина пожал плечами. – А тебе-то что? Зачем?
4Рыбацкая хоромина стояла на пригорке. Над старою проржавленной трубой подрагивал еле заметный дымок.
Тяжело скрипя обувкою по снегу, Храбореев решительно двинулся к тёмной, покосившейся избе. Там находился дежурный – печку топил, похлёбку варил. Глаза у дежурного были насторожённые и даже несколько испуганные – он, видимо, был уже в курсе произошедших событий. «У курсе», как говорил Канюшина. Дежурный так постарался, так подсуетился – все ножи и вилки куда-то запропали.
«Вот это сдрейфили!» – подумал Антон Северьяныч, глядя в спину дежурного, торопливо и молча скрывающегося в дверях.
Он стал собирать нехитрые пожитки. Потом посидел у печи. Осмотрелся, глубоко вздыхая.
В рыбацкой хоромине в первую очередь пахло – естественно – рыбой. Здесь даже смола, протопившаяся на брёвнах, казалась золотистым рыбьим жиром. Да что там смола! Даже сами бревна – волнообразная желтовато-белая структура дерева – представлялась большими рыбинами, с которых топорами стесали мясо, обрубили сучки-позвонки. В избе с утра пораньше топилась печь – артельная, здоровая, куда на рассвете дежурный ставил замурзанный чугунный, двадцатилитровый жбан, в котором варится еда: и обед, и ужин. С утра тут было суетно, нервозно – никому не хотелось выходить на мороз, от которого зубы могли раскрошиться. Зато по вечерам здесь было так чудесно – не пересказать. Усталые артельщики, от еды и тепла разомлевшие – да если ещё по сто грамм пропустившие – вдруг становились неузнаваемыми. Куда-то уходила угрюмость, озлобленность, оттаивали строгие и ожесточённые глаза. И слова у них под языками как будто бы тоже оттаивали – слова всё больше добрые, спокойные, слова, обращённые к дому своему, своей семье, к ненаглядной северной природе. Это было то краткое время, когда Храбореев уважал их всех – поголовно, что называется. Уважал и любил молчаливой мужицкой любовью. В такие минуты он был уверен, что вот это и есть – Народ, или частица Народа, на котором всегда стояла и стоит держава. Сколько тут было шуток, прибауток! Сколько тут сердечных историй открывалось – иногда весёлых, но чаще, увы, драматичных и даже трагичных. И ему было жалко, обидно до слёз, когда этот же самый Народ вдруг становился народом с маленькой буквы. Мужики превращались в каких-то мелких и плюгавых мужичков, что-то не поделивших, готовых глотку перегрызть друг другу из-за лишней рыбины или банки икры. Этот народ в нём вызывал презрение, потому что он бревна не видел в своём глазу – забывал, как сам он когда-то рвал и метал на озёрах и реках, браконьерским способом пытаясь разбогатеть.
Под ногами что-то затрещало, отвлекая от грустных раздумий. Храбореев раздавил поплавок – из-под кровати выкатился, когда он вещи собирал.
Дежурный вернулся – раскраснелся от мороза сильней, чем от плиты.
– Собираешься? – с грустью спросил он. – А может, остался бы? А? Канюшина мне сейчас сказал, ты сходи, мол, намекни ему, дураку, что вся артель не против…
Приятно было слышать этот жалкий лепет от губошлёпа-дежурного.
Человек – это всё же стадная животина, вот почему Храборееву вдруг стало жаль покидать уютную эту, хотя и убогую, рыбацкую хоромину. Здесь – в кругу артели – было теплей и надёжней. И всякое решение здесь принимали за тебя. А там, куда он теперь нацелился – там нужно будет всё брать на себя. А это нелегко. Порою даже очень нелегко. И потому сейчас, когда пришёл дежурный и залепетал; сейчас, когда он закурил «на посошок» – ему вдруг стало зябко возле печки. Зябко от того, что предстоит… И где-то в подсознании – глубоко в пещере потаённых мыслей – какой-то чёртик вильнул хвостом и стал ему нашёптывать: «Зачем, зачем тебе вся эта канитель? Здесь было так уютно и так сытно – возле этого артельного котла…»
– Да пошёл ты! – поднимаясь, сказал Северьяныч и вдруг засмеялся, обращаясь к дежурному: – Это я не тебе, не подумай худого…
Дежурный посмотрел на скрипнувшую дверь. Пожал плечами.
«А если не мне, то кому? – подумал он, озираясь. – А может, хорошо, если уедет? Странный всё-таки дядя…»
Вертушка прилетела по расписанию – привезла продукты, горючку для бензопил и новые отточенные цепи; старые или уже затупились, или порвались где-то в глубине могучей майны.
Северьяныч улетел без сожаления.
Так началась его охотничья судьба – судьба одинокого полярного волка, всей душой полюбившего тундровые просторы. Житьё таких вольных «волков» не отличается весельем, достатком или сытостью, но тот, кто вкусил этой воли, кто вдохнул в себя этот вселенский первозданный простор – тот уже свою судьбу не променяет ни на какие земные блага.
5Весной – на переломе к полярному лету – в небесах над Севером становилось громко, тесно, весело. Из дальних уголков Земного шара – из Манчжурии, Африки, Нидерландов – опять сюда стремились перелётные птицы, горячим сердцем чувствуя магнитное поле Земли также безошибочно, как стрелка компаса. На родные «дворянские» гнёзда возвращались лебеди, гуси, журавли, краснозобые казарки и множество другого пернатого народонаселения. На открытых просторах тундры и под сенью таинственных потеплевших лесов затевались любовные игры.
Хорошо, любо-дорого вешними днями. Можно выйти из душного зимовья, сесть на пенёк, смотреть на Божий мир – не насмотреться. Вот промелькнула проворная кукша. Трудяга. Не покладая крыльев, кукша таскает в клюве оленью шерсть; раздобыла где-то, мастерит гнездо. Проголодавшись, кукша опустилась около избушки. Хитровато скособочилась на охотничью лайку, дремлющую на солнцепеке. Подлетела, схватила из кормушки кусочек мяса – и тикать. А собака – ноль внимания и фунт презрения. Сытая, дурында, сонная. Лениво разлепив глаза, лайка зевнула и опять на боковую.
Охотник сердито сказал:
– Чо ты дрыхнешь? Тетеря. Она тебя скоро ограбит, а ты лежишь, ушами хлопаешь. Балда.
Да, в эту пору некогда «ушами хлопать».
Антон Северьяныч – теперь он уже опытный охотник – с утра пораньше покидает зимовье. Собака – следом. Бежит, строчит по вольному простору. Деревья, кусты обнюхивает и аж подвизгивает от удовольствия. Красота кругом и воздух ароматный – не надышаться. Воздух такой густой, что можно его кусать, жевать. И собака клацает зубами в воздухе – ловит комара, облизывается. И радостно поскуливает, словно поёт. «Понимает, – глядя на собаку, улыбается охотник. – Такой красы нигде не сыщешь днем с огнем!»
В эти весенние дни жизнь горячо и азартно спешит цвести, наперегонки торопится ликовать, любить и наслаждаться немеркнущим золотом полярного солнца. Обголубевший небосвод, отражаясь, плещется в озере. Лоскуты лазури латают ручейки и лужицы. Комары, мошка и всякая другая крылатая заноза звонко пересыпается в воздухе. Зелень – словно за уши тянут из-под земли; вчера ещё не видно было, а сегодня загустела, восставала в полный рост. Зацветает камнеломка – с тихим треском в тишине ломает камень, словно дверцу открывает, выходит из своей темницы. Звездчатка там и тут виднеется живыми осколками упавшей звезды, разбившейся о тундровую твердь. Незабудки – век не забудешь северные эти глаза природы, в самую душу, кажется, глядят. Лютики солнечными пятнами колышутся на ветерке. Нежным пухом листочков оперяется кустарник полярной ивы – божье создание, высотою по два сантиметра, которое даже неловко называть кустарником; на бороде у Северьяныча и то «кустарник» больше вымахивает, если не бриться несколько дней. Под пологом деревьев бубенцами на ветках забренчали чечётки. Овсянка щедро сыпет мелкий свой зазвонистый «овёс»… Пеночка под ветром «вспенилась» – поёт и пляшет на зелёной ветке. Дрозды снуют, варакушки. Горделивый орлан-белохвост величаво проплывает в стороне, презрительно косится на птичью мелюзгу, – пернатый сор, который хозяйка-весна, прибирая избу, вымела сегодня за порог.
На берегу стоит полярная берёзка, узловато скрученная бурями. Северьяныч давно её приметил. И кажется ему: берёзка та была когда-то ненаглядной беззаботной девочкой в белом ситцевом платье, но суровая судьба, как злая мачеха, с годами затюкала её, превратила в седоволосую согбенную старуху с кривою клюкой.
– Жизнь, она такая, никого не пощадит! – вслух размышляет охотник, оглядывая берёзу. – Ты уж, доченька, терпи. Теперь весна, теперь-то что не жить.
Тяжёлою рукой, способной железо умять, он гладит, голубит восковое, упругое тело с малиновым оттенком прохладной кожи, с витиеватыми багровыми прожилками. И чудится ему, что дерево не соком весенним преисполнено – всамделишной кровью. Да так оно и есть, всё тут живое – в этом подлунном мире, всё надо жалеть.
6Дед-Борей – так прозвали охотника Храбореева. Странный был Дед-Борей. Ходили упорные слухи, будто кто-то ему помогает. Кто? Может, дух святой, а может быть, нечистый? Непонятно. Только что бы ни случалось в тундре, Дед-Борей всегда «сухой» из воды выходил. Летом, бывало, разыграется на озере шторм, лодка кверху брюхом опрокинется, или зимою он идёт на лыжах и под лёд провалится… Любой другой не выплыл бы, а Дед-Борей – точно кто невидимую руку ему протягивал. Или взять, например, «слепую» стрельбу, которая была одновременно игрой и практикой для охотников, иногда собиравшихся вместе. Среди тундровиков – до того, как в тундре появился Дед-Борей – был один серьёзный «снайпер» или «ворошиловский стрелок», так его охотники звали меж собой.
– Всякий себя уважающий тундровик, – говорил, бывало, этот снайпер, – никогда не стрельнет по сидячке. Мы стреляем только влёт. Понимаешь, дед?
– Я не дед! – Храбореев хмурился. – И я тоже не стреляю по сидячке. Ну и что дальше?
– А вот смотри… – Снайпер поднимал с земли сухую шишку или монету из кармана доставал. – Белке в глаз и дурак попадёт, когда белка сидит на дереве. А ты попробуй влёт вот эту шишку поразить или вот этот пятак…
– Ну, давай. – Храбореев шапку на висок заламывал. – Кидай.
– Ох ты, прыткий какой! – В глазах у «снайпера» полыхало предчувствие праздника. – Ты сначала отвернись. Я подброшу и дам команду…
Верхней губою пытаясь дотянуться до носа – верный признак волнения – Дед-Борей не спеша передёргивал затвор карабина. Внимательно смотрел на небеса, словно бы запоминая очертания окрестных облаков. Лицо его – бородатое, смуглое, словно бы горелое – становилось отрешённым, даже каким-то демоническим. Он отворачивался и так стоял – широко расставив ноги и сутулясь как будто под грузом гранита. В запасе у него были какие-то две-три секунды, чтобы с разворота увидеть в небесах над головой летящую тёмную точку… Сначала он два раза промахнулся, а потом как пошёл чесать напропалую – ни шишек под ногами не осталось, ни каких монет в карманах у мужиков.
– Ограбил! – восхищённо ревели мужики. – До копейки ограбил!
Слава «снайпера» в тундре с той поры потускнела. А вслед за этим «снайпером» потускнели в тундре и многие другие видные фигуры, которые прежде считались фигурами важными, авторитетными. Теперь на первом месте был Дед-Борей. Угадать погоду, узнать, какая будет миграция зверя в грядущую зиму, найти наилучшее «приворотное зелье» для песца, для волка – в этом равных не было ему.
– Ты научил бы нас, дед! – иногда усмешливо, а иногда серьёзно говорили промысловики. – Поделился бы опытом, дед!
– Да какой я вам дед? – Он сердился, глазами сверкал, словно молниями, спрятанными в тучах-бровях. – На себя посмотрите! Сами уже мохом обросли, а на других наговаривают.
И всё же был он «дед», пускай не по годам, зато по смекалке, по житейскому опыту и знанию тайги и тундры. «Повадка и походка» всякого зверья была ему известно так, как никому другому.
– Он в тундре скоко? Без году неделя! А мы? – судачили рыбаки и охотники. – Я тут, считай, родился. А ты – крестился. И то ведь мы не знаем всего того, что Дед-Борей уже откуда-то узнал, разведал.
Может, здесь была и доля зависти, а может – доля правды проговаривалась.
Промысловики, бывало, неделями кисли без дела, бражку потягивали, хлестались в карты или просто дурью маялись, плевали в потолок – не шёл песец в ловушки и капканы. Случается такое. Не идёт – и баста. Полный песец, как говорится. У всех в округе пусто, а у Деда-Борея хоть маленько, да есть. Огребёт. Да ещё и усмехается при этом: так, мол, ерунда попалась, можно было бы и не ходить, ноги зря не колотить. Или, случалось, рыба не клевала – выходной брала. Ни у кого – ни хвоста, ни чешуйки. А этот окаянный Дед-Борей, глядишь, опять обрыбился, да так, что лодка у него огрузла, вот-вот губастыми краями хлебнёт волну.
Пробовали даже проследить за ним. Ходили потаёнными тропами, смотрели в бинокли. Пытались ловить и охотиться в тех же самых местах – бесполезно. Вот что это такое? Как это назвать? Везение? Нет, что-то здесь другое, братцы. Когда-то про таких людей в Сибири говорили – «слово» знает. Может быть, и знает, не без этого. Только все же здесь – в случае с Дедом-Бореем – было что-то другое, гораздо глубже и потаеннее суеверного «слова». Что? Э, дорогой товарищ, кабы знать! Народ говорил про какого-то Царька-Северка. Интересно было бы узнать, что за царёк такой? Да и правда ли это, ребята? Мало ли сказок гуляет в устах озорного русского народа…
Царёк-Северок
1Далёкие горы казались призрачными. Синевато-светлые с дымчатым подбоем горы сказочно реяли, подрагивая между небом и землей. Как будто великий Творец, сочинивший эту красоту, сомневался ещё: в небесах её оставить или водрузить на северную землю?
Глаза у парня вспыхивали радостью, когда он посматривал то на далёкие горы, то на вертолёт, оранжево мерцающий поблизости – на площадке, огороженной редким частоколом. Площадка была небольшая, с белым посадочным кругом, давно уже нарисованным и полустёршимся на бетоне.
В полосатую штанину, висящую на длинном шесте аэропорта, ветер ногу неожиданно просунул. Штанина заболталась, туго натягиваясь. Парень посмотрел по сторонам. Поёжился. Погода на глазах преображалась – не в лучшую сторону. Свинцово-серые, тугие облака из-за гор выкручивались. Тени кругом аэропорта становились широкими и плотными, а свет между ними напротив – жидковатый, узенький. Симпатично одетая полярная птаха пуночка – снежный подорожник – живым цветком затрепетала неподалёку от парня. Крылья этого цветка, будто лепестки, задрожали под ветром, раскрылись – и парень с сожалением вздохнул, глазами провожая снежный подорожник, которым он невольно залюбовался.
Вершины далёких гор, кое-где покрытые остатками снега, стали скрываться под напором облаков.
«Как бы ещё полёт не отложили! – заволновался молодой человек. – Чего канителятся?»
Он ждал пилотов. Сначала он топтался около дорожки, ведущей на лётное поле, а затем вернулся к деревянному крыльцу аэропорта. Он уже хотел зайти вовнутрь и уточнить по поводу полёта, но в это время двери вдруг открылись – едва не ударили в лоб.
Вышел одни из пилотов – сухощавый, с тёмными насмешливыми глазами – Эдуард Архангельский, по прозвищу Архангел. Постояв на крыльце, посмотревши на горы в дымке, Архангел спросил, закуривая:
– Ты, что ли, с нами полетишь?
– Я не знаю, с вами, или нет… – Парень головою покрутил, посматривая по сторонам. – Мне сказали, что Мастаков…
– Значит, с нами. Командировочный? – Лётчик снисходительно посмотрел на парня. – Первый раз на Крайнем?.. Как зовут?
– Тиморей.
– Что за имя такое? Заморское.
– Обыкновенное. Тимофей. Просто в документах одна буква оказалась «пьяная», вот и получилось…
– Ясненько. – Пилот лениво выпустил длинную дымную струйку. – Ты, говорят, художник?
Тиморей смущенно улыбнулся. Посмотрел на пальцы, кое-где испачканные красками.
– Художник – это громко сказано.
Архангельский, вздыхая, неожиданно спросил:
– Ты в церковь-то сходил?
– Я? – Парень растерялся. – Нет. А зачем?
Отстрелив окурок от себя, «Архангел» посмотрел по сторонам, чуть наклоняясь к Тиморею.
– Этот новый командир, между нами, девочками, говоря… – Он оглянулся на дверь. – Ладно. Кажется, идут. Слышь, парень, ты молчи! Я ничего тебе не говорил. Не продавай меня.
Лёгкое чувство тревоги вселилось в душу Тиморея. Он хотел что-то спросить у «Архангела», но тут перед ним появился молодцеватый, бравый командир вертолёта. Командир был серьёзен, чуточку хмур, однако в глубине его отважных глаз – будто бы смешинка затерялась.
Они прошли к оранжевой вертушке, которая только издалека могла показаться оранжевой. Много раз подкрашенная за годы эксплуатации на полярных широтах, вертушка была вся в заплатках: тут гранатовый цвет, там лососевый, а здесь кожура апельсина…
– Извините… Кха-кха… – как бы между прочим поинтересовался парень, прежде чем забираться в кабину. – А вы давно уже летаете на Севере?
– Да столько же, сколько на Юге, – спокойно сказал командир. – Это мой первый полёт. Проходите. Или вас что-то смущает?
Кисточки бровей у парня дрогнули.
– Нет, почему? Всё нормально. – Переступая через мешки, через ящики, Тиморей забрался в полутёмное прохладное чрево вертолета. «Вот это повезло! – Он покосился на командира. – Седой, а всё ещё молодой, в новичках».
Командир отвернулся, делая вид, что поправляет фуражку, и парень не успел заметить озорные огоньки в глазах Мастакова.
«Интересно, – подумал парень, – такое ощущение, как будто мы знакомы. Но где же, где я мог видеть его? Откуда мне знакомо это колоритное лицо? Натюрморда, как сказал один великий живописец…»
В кабине защёлкали какие-то кнопочки, тумблеры. Винты засвистели, раскручиваясь. Чахлая полярная трава с небольшим вкраплением чахленьких цветов затрепетала по краям взлётной площадки. Пыль и даже каменная крошка – взметнулись, покатились кувырком. Корпус вертолета угрожающе задрожал и покачнулся – многотонная махина оторвалась от земли. И вдруг…