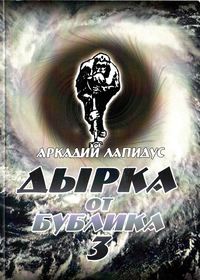Полная версия
Дырка от бублика 2. Байки о вкусной и здоровой жизни
Юноша подошёл к столу и бесцеремонно начал копаться в бумагах.
– Опять рукопись потерял?
Доктор зазвенел ключами, открывая сейф.
– Опять, опять…
– На, и не бросай где попало!
Доктор вынул из сейфа папку и протянул её юноше.
– Кстати, познакомься – наш новый директор!
– Ещё один… – вздохнул юноша и протянул ладонь. – Гений! Я – гений!
– Я – тоже, – улыбнулся Аполлон.
– Иронизируете? А жаль. Улыбка у вас хорошая, – сказал юноша и неожиданно тоже улыбнулся.
– У вас тоже, – ответил Аполлон и не соврал: улыбка бледного юноши была светлая.
Минутой позже герой узнал, что звали его Федей и он занимал должность художественного руководителя Дома культуры."
"… Федя был смелым человеком – он писал и говорил правду! Естественно, что его никогда и нигде не печатали и всерьёз не воспринимали. Это совсем не значит, что те, кого печатали, лгали. Просто их правда особенно глаз не колола и, обходя рифы социальных и природных закономерностей, шибко не тревожила. Даже профессиональные сатирики не решались поднять глаза вверх, против течения – к истокам, и смотрели лишь вниз – по течению, указывая на уже образовавшиеся заторы, а не на те места, откуда несло мусор. Следствием этого было то, что не успевали благодарные труженики ликвидировать один затор, как тут же образовывался новый, и, зачастую, в совершенно непредвиденном месте."
"… Федя же всегда плыл и смотрел против течения, то есть вверх, и не понимал – почему, выше министров, ошибающиеся или бездарные смертные прижизненной гласной критике не подлежат."
Понятно, что герой страдал от отсутствия своей литературной реализации, а поддерживал его и всячески поощрял до появления Аполлона лишь Наум Аркадьевич.
НАУМ АРКАДЬЕВИЧ:
"Наум Аркадьевич был личностью незаурядной. В разговоре с собеседником, внушающим доверие, он представлялся не иначе как беспартийной сволочью, видимо, не исключая того, что попадаются ещё и партийные. Конечно же, сволочью он не был, а был по характеру и жизненной позиции Дон-Кихотом, а по профессии врачом. Больные уважали его за то, что он делал их здоровыми, а здоровые – за то, что он не делал их больными.
Надо сказать, что живых Дон-Кихотов не любили, не любят и, видимо, никогда не будут любить власть имущие, благополучные и бескрылые. Как смеялись они над ними, так и продолжают смеяться, а если смех не помогает, то их просто выдёргивают, как вылезший гвоздь из каблука, и швыряют в придорожную жизненную грязь, предоставив полную свободу для окисления. Поэтому биография Дон-Кихота-доктора так же как и биография его литературного коллеги Ламанчского, была сложна, необычайна, полна мытарств и треволнений, падений и подъёмов.
Однако в данном случае результат не стал трагедией. По крайней мере – пока! Доктор закалился, обрёл бойцовские качества, умел постоять за себя и за других и, главное, научился побеждать. Перед самой пенсией он осуществил вечную мечту странников поневоле: купил крохотный саманный домишко с садиком, построил огромную беседку, повесил в ней гамак и бросил свой трудовой якорь в медпункте авторемонтного завода, а в настоящем – объединения. Вот уже более пятнадцати лет он крепко держал здоровье заводчан в своих опытных добрых тёплых ладонях и когда считал нужным, группировал их в кулаки и наотмашь бил по бюрократическим столам, без спросу повышая голос и совершенно не взирая на лица. В результате этого досрочно был построен профилакторий и роскошный физиотерапевтический комплекс с лучшим отечественным и импортным оборудованием и заметно уменьшился поток больничных листов. Вся администрация объединения, включая инженерно-технический персонал и самого генерального директора, лечилась только у Наума Аркадьевича и, называя его профессором, а также главным звеном своего жизнеобеспечения, берегла доктора, терпя все его причуды».
И всё бы ничего, если бы Наум Аркадьевич не мучался от непроходящего жгучего желания вылечить не только всех больных, но и общество в целом. Его друг – Абрам Моисеевич – тоже горел этим огнём, но, в отличие от доктора, не верил в эволюцию извращённого социализма.
АБРАМ МОИСЕЕВИЧ:
"… Очень сильно подозревая, что слово «еврей» произошло от слова «европа», Абрам Моисеевич собирался уезжать в Израиль, а оттуда в Швейцарию.
– Я знаю, что я делаю и на что иду! – жарко заявлял он своим знакомым, отговаривающим его от такого сомнительного шага, и задавал такие вопросы, честно отвечать на которые было или чрезвычайно трудно, или небезопасно.
В своё время Абрам Моисеевич экстерном сдал полную колоду экзаменов физико-математического, исторического и филологического факультетов. Универсальное гуманитарно-аналитическое образование постоянно им самим совершенствовалось и расширялось, и благодаря этому он, не считая своего родного идиша и русского языка, в совершенстве владел ивритом, английским, немецким, французским, испанским, итальянским, а также был ярым пропагандистом и поборником эсперанто. Кроме того, Абрам Моисеевич с детства безумно увлекался всеми семью музами и, как и в любой интересующей его области, и здесь достиг вполне приличных высот и разве что только не танцевал балетно. Он писал и переводил стихи и небольшие новеллы, рисовал маслом в стиле мастеров Возрождения и имел обширнейшую фонотеку классической и современной музыки, а также литературных и драматических записей.
Так вот, питая естественную симпатию к незаурядным способностям Абрама Моисеевича, горячее всех отговаривал его от отъезда в Израиль, а оттуда в Швейцарию Наум Аркадьевич. Он уверял, что за счастье нужно бороться там, где ты живёшь, а не думать, что где-то оно в готовом виде изнемогает от ожидания своего избранника.
– Брось, Нюма, детсадовскую ерунду пороть – ты же неглупый человек! – обычно отвечал на это Абрам Моисеевич. – У каждого счастье своё! Одному нужно нажраться, другому накомандоваться, третьему с бабами наспаться, четвёртому скорее на пенсию податься, и так далее, и тому подобное… Я же не могу жить в стране, где слово «еврей» произносится как ругательство.
– Где? Где произносится? – отчаянно кричал Наум Аркадьевич.
– Везде!
– Кто? Кто произносит?
– Все! Даже сами евреи уже вынуждены.
Что мог ответить на это Наум Аркадьевич, если сам он почти всегда, отвечая на вопрос "Кто вы по национальности?", автоматически настораживался и каменел.
Ловя растерянность оппонента, Абрам Моисеевич распалялся ещё больше:
– Вот ты говоришь – бороться! Во-первых, как бороться, а во-вторых, с кем?
– Со всем! Талантом и добротой! – отвечал обычно доктор и оживлялся. – Самый естественный, надёжный и перспективный способ.
– Талантом? – взвивался Абрам Моисеевич. – Пусть я нескромный человек, но этим Бог меня не обидел. И что я вижу? Зависть! Чёрную зависть! "Вот, еврей, сволочь, шпарит!" – говорят. Это о языках. Или – "Вот, жид, гад, пишет!". Это о стихах. Или… А насчёт доброты, так чем ты добрее, тем, значит, трусливее, и даже если еврей герой, то всё равно трус, и тут хоть головой об стенку бейся. Да что там говорить!.. И почему это я вместо того, чтобы нормально жить, должен всю жизнь доказывать, что я добрый и талантливый и имею не меньше прав на недостатки, чем кто-либо другой?
Абрам Моисеевич знал, что говорил, – недостатки были. И главный из них – это десять лет молодости и зрелости, проведённые на сталинских лесоповалах от звонка до звонка. Ослабленные недоеданием, авитаминозом, антисанитарией и каторжным трудом, заключённые умирали там от малейшей царапины, и он выжил только благодаря тому, что пристроился к медпункту. А осуждён был за то, что во время фашистской оккупации сотрудничал во вражеских газетах, втолковывающих неразумным славянам и неславянам про единый и такой же всегда и для всех правильный, как и псевдокоммунистический, национал-социалистический порядок.
…Выйдя на свободу, "враг народа" узнал, что уже три года как реабилитирован. Нашлись документы, объясняющие его окололитературные вояжи по немецким тылам. И хотя даже награда нашла "предателя и подонка" и он получил какой-то, изрядно запоздавший орден или даже «Звезду Героя» за свои подвиги разведчика и выслушал скучно-равнодушные извинения от роботовидного бюрократа-полковника с необъятным брюхом, но вопросы без ответов оставались, и это только укрепляло его эмиграционную решительность.
Спор всегда заканчивался одним и тем же – Абрам Моисеевич громко кричал, что всё равно уедет в Израиль, а оттуда в Швейцарию, а Наум Аркадьевич так же громко и упрямо отвечал ему:
– Ну и дурак!"
Бирюлечки
Что ни говорите, а счастье и покой – понятия родственные. И если дрыжики, ёрзанья и беготню с выпученными глазами некоторые тоже называют счастьем, то так им и надо. Так им и надо – тем, кто сидели сейчас в беседке Наума Аркадьевича, неторопливо пили чай и, похоже, были счастливы совершенно несвойственным им счастьем покоя. Впрочем, были ли? Был месяц апрель первой половины восьмидесятых годов двадцатого столетия, и покой в природе не наблюдался. Скорее, наоборот – похоже было, что приближался очередной конец света в одной отдельно взятой стране.
Немного воды утекло и продолжало течь, но много событий произошло и продолжало происходить. Кто-то наконец-то "дал дуба", и некоторые сердца напряглись в ожидании хоть каких-то перемен; кто-то совершенно не вовремя сделал то же самое, и некоторые поняли, что надеяться не на что; кто-то опять внёс на своё имя кругленькую сумму в закордонный банк, и немалое количество тоже некоторых воспылало к нему чёрной завистью. Жизнь смеялась и вертела своё лотерейное колесо!
– Хорошо! – сказал Абрам Моисеевич.
– Ещё бы! – ответил Наум Аркадьевич. – Родина!
– При чём здесь Родина? Просто хорошо – и всё!
– Но ты же сейчас здесь счастлив?
– Предположим…
– Не предположим, а точно. А там, где ты счастлив, – там и твоя Родина.
– Вот-вот! Родина – это привычка. Вернее, комплекс привычек. А привычка свыше нам дана. Замена счастию она!
– Чай стынет, – вмешался Аполлон, разливающий по чашкам этот безобидный напиток.
Федя перелистывал «Похождения бравого солдата Швейка» и чудовищно веселился.
– Ой, не могу! Ой, держите меня! – покатывался гений. – «… Как твоя фамилия? Швейх? Ну, видишь, чего ж ты запираешься, когда у тебя такая еврейская фамилия?». Ха-ха-ха-ха…
Аполлон хмуро улыбнулся и взял гитару.
– «Ты жива ещё, моя старушка? Жив и я. Привет тебе, привет!", – зазвучало красиво и печально.
Все умолкли.
– «Пусть струится над твоей избушкой тот вечерний несказанный свет…» – пели гитара и герой.
Длинное арпеджио закончило мелодию, а с ней и иллюзию покоя.
– Кстати, о политике! – сказал маэстро, как бы подытоживая длинную цепь мучительных раздумий. Поистине – за что боролись, на то и напоролись!
– Ну вот и наш директор тоже свихнулся, – отозвался Абрам Моисеевич. – А всё среда. Твоя среда, Нюма.
– Моя? – удивился доктор. – Да он чудом в живых остался.
– Да-да, – подтвердил Аполлон. Какое-то дополнительное напряжение появилось. Может, диазепам попринимать, а?
– Ни в коем случае! Никаких диазепамов! Только в экстренных случаях, и никак по-другому! – возмутился Наум Аркадьевич и, вскочив, начал быстро и сильно растирать кисти рук. – Я тебе другое лекарство пропишу. Без побочных действий и верное. Проведём одно большое клубное мероприятие, и всё – как рукой!.. Будем строить будущее. Естественно, светлое. Социализм, наконец, чёрт возьми!
– Да ты что? Весна в голову ударила? – усмехнулся Абрам Моисеевич.
– Мечта!
– Дурдом! Ей-богу, дурдом! Псих! Тебе самому диазепам нужен. Причём в лошадиных дозах.
– Крыса, бегущая с корабля!
– Граждане, граждане! Вы же только чай пили! – попытался остановить гладиаторов директор. – И потом, социализм уже построен. Развитой!
– Ну конечно… Опухоль! Злокачественная! Понимаете – патология! Извращение, наконец! Всё только в песнях…
– Пусть даже так. Но что мы можем – члены профсоюза? Меня вот только на горшки хватило, – махнул рукой Аполлон.
– Всё! Всё можем! Главное – расщепить первый атом, а там такая реакция начнётся… При критической массе, конечно…
– Вот видишь – сомневаешься насчёт критической массы? Распад! Распад начнётся. Обыкновенный развал. Весь мир насилья мы разрушим, а затем опять Содом и Гоморра.
– Стерва ты, Моисеевич! Всё, что надо, само разрушится, а что надо – построится. Всё люди сами отрегулируют. Главное – не надо мешать. Маленький рычажок повернём – и покатится. Покатится, Федя?
– А как же!
– К какой-то матери!
– Вверх! – поправил Федя. – Мы – машина с зажатыми тормозными колодками. И ведь ползём! С вонью, медленно, но ползём. А если колодки отпустить?
– Ну, Марксы! Ну, Энгельсы! Поль, не слушай этих экстремистов. Используют и выбросят на помойку истории.
– А что, – встрепенулся герой. – Археологам и исследователям, в основном, помойки и достаются. Тут-то дело надёжное. Встряска! Мне тоже нужна встряска. Зигзаг! Пусть детский лепет, пусть смешно, но всё какая-то физкультура. Абрам Моисеевич, присоединяйтесь!
– А куда мне деваться? Разве я вас брошу! Я же активнейший участник самодеятельности. Но не советую. Прогорим на все сто. Весь глобус нужно к свету поворачивать, а не с карманным фонариком в тени бегать.
– Ну, если и фонариков не будет, то совсем зрение атрофируется. – Вот! – потряс кулаками неугомонный эскулап. – Физкультура, физика в конце концов – ерунда! Объём, вес, количество – тоска! Главное – химия! Вступайте в реакции! Превращайтесь и синтезируйтесь! Создавайте новые соединения и элементы! Кипите, пучьтесь, разрушайтесь, взрывайтесь! Горите синим пламенем, наконец, но не лежите! Належитесь ещё в своём персональном гробике из бракованных досок! Мы с вами такое тут наворочаем, Поль, такое нашуруем! Народ валом валить будет! А ты же, Абрам, – Спиноза! Твоей интеллектуальной мощью можно город освещать! Про Федю я уже и не говорю.
– Ну, старичок! Ну, зловредный! Ишь, как кулачками размахался! Выкладывай свой бред, выкладывай! Всё равно не успокоишься, пока не намордуешься.
– И выложу. Инициативу и творчество масс – в сторону внутризаводских проблем. Не шурупы там, а взаимоотношения. И никаких заумных выпендриваний – всё на самоуправлении. Всё на инициативе. А когда колесо сдвинется, то этим политическим импотентам ничего не останется, как или поддержать нас, или катапультироваться.
– И что в результате? Почётные похороны почётным членам и новые отряды динозавров?
– Радость! Только радость! Многое мы не можем, но пусть вокруг нас, пусть на время, но пусть будут улыбки! Горящие глаза! И вообще, пусть люди почувствуют, что свобода – не только осознанная необходимость, но и право свободного выбора и ответственность. Побузят, конечно, немного, но лишь бы проснулись. В общем, мелочи и ничего нового.
– Ну да… Почти бирюлечки… Особенно буза…
– Бездействие – хуже бессмысленного действия! – покончил с сомнениями Абрама Моисеевича Аполлон. – Стратегия утопична, но ясна. Как с тактикой?
– Да-а… Тактика… – протянул неугомонный эскулап. – Единственный плюс в главном минусе – сегодня всем всё до лампочки. Создадим иллюзию эксперимента ЦЕКАки, горкома, райкома и никто даже нюхать не станет. Где-то примерно такие же эксперименты уже проводились.
– Так об чём речь? – удивился Аполлон.
– Мы пойдём дальше. И гораздо… – встрепенулся доктор. – Никаких полумер. Всё до упора! В бесконечность! Пусть люди почувствуют, что им действительно доверяют до конца. Для этого хотя бы на месяц или два вместо призывной планово-отчетной галиматьи надо для ограждения соорудить кипу определённых бумажек с печатями и подписями и вперёд! Короче, дайте мне на месяц точку опоры, и если ничего не получится – застрелюсь!
– Ой-ой-ой! – иронически заохал Абрам Моисеевич. – Смерть-то для этого света – бессюжетна. Пусть стреляются те, кто на ответственных постах гадят. Месячишко или несколько, я думаю, можно будет обеспечить без особой натуги. Впереди лето… то да сё… А потом… Тут у меня в голове и на потом кое-что есть…
– Вот! – обрадовался доктор. – Представляете, управление и контроль – массовые. Распределение доходов – тоже.
– Куда? Откуда? С каких хлебов? С госбанковских перечислений? Уволь! Это уголовщинка!
– Сегодня уголовщинка, а завтра – норма. Распределим! И без криминала. Дом культуры превращаем в Смольный, а…
– А тебя в Свердлова! Уже распределяли, и не раз! – безнадёжно махнул рукой оппонент.
– Не сбивай! Опираться на все обезноженные и обезрученные активы. Всех в дело, и ничего экстравагантного. Переведём мотор с холостых оборотов на ход – и всё! Одно большое клубное мероприятие!..
– Бахтубеков сразу нанюхает, куда ветер дует, – вспомнил Федя и побледнел.
– Бахтубеков?.. – как на риф, наткнулся доктор.
– Да бросьте вы кошмары нагнетать! Нашли фигуру! Слава богу, он всего лишь завком, а не первый секретарь райкома! – успокоил Аполлон. – Да я ему так мозги запудрю, что ещё и помогать будет.
– Правильно! – обрадовался Абрам Моисеевич. – Организуем боевой отряд жуликов – и рылом вперед! Жулик, он, брат, такой инициативный и творческий, что только держись! Нет, правда, Нюма, это же совершенно гениально. Я их лично поведу!
– Ну-ну, давай… – успокаиваясь, буркнул доктор. – Ты хотя бы помоги мне сначала, а потом дуй в Израиль, то бишь в Швейцарию. Я слова не скажу против.
– Слава Богу! Наконец-то!
– Товарищи! – вдруг торжественно и с дрожью в голосе почти продекламировал Федя. – У меня такое ощущение, какого никогда… никогда не было…
– Жениться тебе надо! – чуть было не сказал Абрам Моисеевич, но промолчал.
– Давайте выпьем… ну хотя бы по стакану чая! За то, что свела нас судьба и нам так хорошо от этого. Я прочту. Я хочу прочесть. Я первую часть в психдоме написал. Депрессивную. А вот теперь… Нет, я прочту всё с начала:
Света! Темно! Солнца круг, как в дыму!Где оно? Не видать…Кто меня тянет в бездонную тьму?Кто хочет жизнь отнять?..Сердце схватила стальная рука– Давит его и жмёт.Миг растянулся в немые века…Душно! В ушах поёт!Синь – высока. Горизонт – далеко.Воздуха – хоть глоток!Боже мой, как умирать нелегко!Как быстротечен наш срок!Врешь! Буду жить! Я не всё вам сказал!Главное – впереди!Кто это там меня трупом назвал?Ближе ко мне подойди!Плюну в твои я слепые глаза!Ты их протри и смотри!Видишь – там в небе моя бирюза.Ну-ка, попробуй – сотри!Видишь – там солнце горит в бирюзе.То горит сердце моё.В сторону тьму! Тьму люблю я в грозе.Врёт заключенье твоё!Все молча потянулись к самовару.
Калитка хлопнула, и в беседку вбежал Бахыт – методист по спорту завода.
– Пожар! – выкрикнул он. – Ваш сарай горит! Я на машине! Живо! Живо!..
Всё течёт – всё из меня!
Люди любят то, что доставляет им удовольствие. Большая часть любит искусство, детей и то, от чего они заводятся… и многое другое. Другая, гораздо меньшая часть, любит склоки, драки, муки ближних и всякие подобные штуки. И если первые вызывают симпатию, а вторые – наоборот, то третьи – только недоумение. Это те, совсем уже немногие, которые находят удовольствие в самоистязании и истязании их самих ближними. Автору даже кажется, что первые убеждённые злодеи возникли из сострадания к этим третьим. Ну, как доброй душе не подарить хоть капельку радости жаждущему и стенающему! Вот и получилось, что пущенное на самотёк добро обратилось в зло, и мир поделился на чёрное, белое и психиатрическое…
Бахыт Ермекович Султанбаев к третьей категории не относился. Не относился он и ко второй. Значит… Да-да, конечно к первой! И, в частности, в основном – к пунктику «От чего они, то бишь детки, заводятся». Дело, как говорится, благородное и, безусловно, альтруистическое. Приятное, доложу вам, дело, особенно если силы есть. А этого добра у спортработников – сами понимаете… К старости, оно конечно, и облысение, и обленение, и ожирение, и «пол-шестого», но пока…
– Пока кой чем ещё горим, пока сердца для кайфа живы, мой друг, красоткам посвятим телес конкретные порывы! – декламировал своим друзьям и знакомым Султанбаев.
Это, сами понимаете, уже не Пушкин, но еще и не Смирнов. Кто такой Смирнов? О, их много, и все – члены каких-нибудь Союзов. И все божатся, что их фамилии произошли от слов «с миром», а не от команды «Смирно!». Знакомству с одним из этих «миролюбцев» и посвящен данный эпизод, и мы встретимся с ним попозже, а пока – несколько штрихов к портрету Бахыта Ермековича.
Спорт – это примерно такая же кормушка, как ГАИ и вытрезвитель. Корсарам от внутренних органов, конечно, проще. Спел лермонтовское «Выхожу один я на дорогу» – и сотенка в кармане. Но и флибустьеры от спорта тоже не дремлют. Тем более, что песенка у них будет и попроще, и поширше – «Нынче здесь – завтра там!». Те, кто бьют рекорды, надрывая свои пупы, и не ведают, какие денежные Арагвы кипят и пенятся вокруг них, и оседают, и оседают в карманах у добродушных и серьезных, игривых и респектабельных и ещё каких хотите спортсменов-функционеров. Матёрые – так те вообще уже грабят и фарцуют молча, насупив брови. Они скорее относятся к третьей категории, то бишь к психиатрической, но кому от этого легче?
Так вот, Султанбаев еще не облысел ни морально, ни физически, и потому тянул в свой карман «честно» и только для девочек, и только для них. И машину-то он приобрел оригинальной конструкции у самодельщика, правильно веря, что девочки в неё будут впархивать охотнее, и квартиру, забитую импортными мебелями (это не ту, в которой жил, и тоже забитую, а ту, что для него и его друзей и товарищей являлась дворцом левых бракосочетаний), и жену покорную и безропотную. Впрочем, жену он не купил, а взял у Бахтубекова как залог их нерасторжимой дружбы и полного взимопонимания.
Королевское родство!
Бахтубеков был тестем Султанбаева!
Доставив наших героев к месту происшествия, Бахыт даже не взглянул на горящий сарай, в котором хранился реквизит и прочий театральный хлам. Озаряемый всполохами пламени, он поспешил в кинобудку клуба, где вынужден был оставить двух прелестниц на попечение инвалида второй группы киномеханика Серёги, лишённого по пьяни одной нижней конечности. И пока наши герои помогали пожарникам разгребать то, что осталось от декораций и бутафории, Ермекович бил морду инвалиду, похоть которого оказалась балла на три выше Султанбаевской по шкале землетрясений Рихтера. Прелестницы же, как ни в чём не бывало, облачались в свои нижние доспехи и с нежностью поглядывали на отстёгнутую ногу сексуального пирата.
Неизвестно, чем бы закончилась эта межконкурентная борьба, если бы в кинобудку не постучался Смирнов. Тот самый, который член одного из Союзов и в частности – Союза писателей, и секретарь общества трезвости той же конторы. Прервав массаж лица напарника, Султанбаев открыл дверь.
Прелестницы тут же выпорхнули и, гремя каблучками, по железным лестничным ступенькам побежали вниз, на ходу обмениваясь впечатлениями и повизгивая от восторга. Смирнов же только цокнул им вслед и, сверкнув огненными белками глаз, извлёк из кармана бутыль.
На некоторое время в кинобудке воцарилась деловая тишина и мир…
Иван Смирнов был личностью весьма выпирающей из общего ряда подобных. По неточным сведениям, а вернее просто со слов самого героя, в одном из миномётных шквалов наших частей, перепутавших азимут или что-то там ещё, ему осколком мины шваркнуло по темечку, после чего он понял, что жизнь если и игра, то довольно опасная, и в ней если сам чего не урвёшь, то тебя урвут. И хотя после госпиталя он возвратился к боевым действиям, но уже в то время они начали давать некоторый крен, что не помешало ему в конце жизни стать ветераном Великой Отечественной войны и с великим нахальством и шустростью пользоваться всеми вытекающими отсюда привилегиями и почестями.
Впрочем, основания на эту шустрость были действительно заложены ещё во времена боевой молодости. Тогда, на коротких остановках эшелона, идущего на фронт, Смирнов выскакивал на перрон с кусками динамита, обмазанного мылом, и менял этот весьма необходимый в хозяйстве инвентарь на продукты питания. Как благодарные тыловые старушки им мылились, можно только представить, но можно и надеяться, что в печку сей продукт «стукнутой» фантазии будущего знаменитого русского поэта Казахстана не попадал и ножом или топором его не делили на недельные кусочки.
Однако пытливый, уже травмированный, ум на этом не остановился. Когда где-то на польских или чехословацких, а может быть, и уже германских полях Ваня обнаружил совершенно целый фаустпатрон, то не замедлил испытать его, предварительно попросив товарища отойти за спину, дабы ничего не случилось. Патрон благополучно сработал, и со Смирновым ничего не случилось. Правда, товарищ лишился глаз и лицо его приобрело вид мочёного яблока, но хорошо, что жив остался!