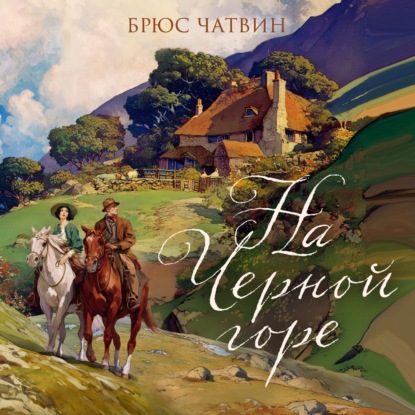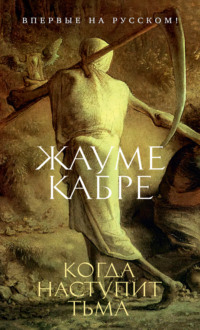Полная версия
Голоса Памано
– Он не так давно вернулся из Рима. Ему пришлось бежать, когда… В общем, в тот день, когда умер мой отец. – Она вновь посмотрела на снимок, на этот раз очень внимательно, словно видела его впервые. – А ведь он так любил его.
Отец Аугуст Вилабру положил книгу на стол, скупым жестом отпустил фотографа и попросил брата сесть. Любезность на их лицах растаяла, как желе на солнцепеке.
– Хочу проинформировать тебя об успехах твоей дочери.
– Мне совершенно безразлично, клянусь тебе. Элизенда – всего лишь девушка. Вот чего бы мне действительно хотелось, так это чтобы Жозеп был немного умнее.
– Боже мой, Анселм! – огорченно воскликнул его брат. – Откуда в тебе столько ненависти?
– Не тебе меня упрекать.
– А почему не мне? Я на семь лет старше тебя, к тому же я священник и теолог.
– Ты математик в сутане, и тебя интересуют лишь твои интегралы и производные. Ты понятия не имеешь, что такое испытывать страх на поле боя.
– Пресвятая Богородица… – И возмущенно, но сдерживая себя: – Тебе только поле боя подавай…
– Не будь ханжой, ведь Библия полна крови, мертвецов и полей сражений.
– Не надо переводить разговор на другую тему.
– Ничего я не перевожу. – Капитан Анселм Вилабру, вынужденный уйти в отставку пять месяцев назад, в ярости вскочил на ноги и, наклонившись к брату, выкрикнул, словно выпуская в него смертельную пулю: – Ведь не ты же потерял из-за бездарного командования шестьдесят человек в Игерибене!
Отец Аугуст ничего не ответил. Его брат воспользовался моментом, чтобы растолковать ему: не надо никому об этом говорить, но знай, что мой настоящий враг – не Игерибен, не марокканское войско, не Эль-Хосейма, даже не подлый предатель Мухаммед Абд-аль-Крим. Моего врага зовут король Альфонс XIII… проклятый сукин сын, тупица, который ткнул пальцем с аккуратно подстриженным ногтем в карту, висевшую в зале, где он изволил играть в войну, и сказал здесь, я хочу, чтобы здесь, в Эль-Хосейме, высадилась наша армия, а все остальные пытались возражать: но, ваше величество, может быть, следовало бы сообщить об этом верховному командованию… А этот сраный король…
– Изволь придержать язык. Ты меня оскорбляешь.
– Хорошо. Так вот, да будет тебе известно, что, когда ему сказали ваше величество, следовало бы поставить в известность верховное командование, он снова ткнул указательным пальцем в Эль-Хосейму и заявил я сказал здесь; а остальные лишь растерянно переглянулись, не зная, что делать… Поэтому он мой злейший враг, да еще в довершение всего он лишает меня титула барона; так что это просто великолепно, что такой храбрый, мужественный и всеми уважаемый солдат чести, как генерал Примо де Ривера, наведет наконец порядок в сей разоренной стране, где нам, к несчастью, выпало жить. Я понятно изъясняюсь?
Капитана Анселма Вилабру обучали произносить речи в Военной академии, и с годами, как он полагал, его ораторское искусство только отшлифовалось и усовершенствовалось. Вот и сейчас он был полностью удовлетворен произнесенной филиппикой, и особенно тем, что, как ему показалось, его патриотический пыл затронул чувствительные струны души брата. В завершение он решил подкрепить достигнутый результат пророческим, по его мнению, заявлением:
– Любой компетентный военный, который пожелает навести порядок в этом хаосе, может рассчитывать на мою поддержку.
Не найдя, что сказать, отец Аугуст потряс полой сутаны. Давно он не чувствовал себя так неуютно со своим младшим братом. Во избежание окончательного поражения он решил избрать противоположную тактику и спокойным, задушевным тоном сказал:
– Понимаешь, я не люблю военных.
– Я стал военным по воле отца, так же как ты – священником.
Отец Аугуст вновь посмотрел брату в глаза:
– И еще я не люблю, когда унижают короля.
– А знаешь, что самое ужасное? Что всего того, что произошло в Аннуале и что, помимо всего прочего, стоило мне военной карьеры, можно было избежать.
– Высокая политика не для нас.
– А знаешь, что еще ужаснее?
– Твое сердце переполняет злость, и причина ее не в короле, а в Пилар.
– Так вот, когда в Игерибене мне отдали приказ выступать, я знал, что больше половины из нас погибнет. Но мы все равно выступили, потому что солдат должен подчиняться приказам.
– Да простит тебя Бог, Анселм. – Священник отчужденно взглянул на брата. – Ты уж извини, что я вмешиваюсь, но с тех пор, как Пилар…
– Какого года этот снимок? – спросил Ориол, только чтобы что-то сказать.
– Тысяча девятьсот двадцать четвертый, – прочла она под фотографией. – Это год, когда отец оставил военную службу и вернулся сюда.
– А ваша мать? Почему ее нет…
– Дядя Аугуст вернулся из Рима этой весной, но поскольку он каноник, то проживает в Сеу-д’Уржель… – Она улыбнулась. – Но он часто приезжает сюда. Ему нравится считать себя моим духовным наставником.
– А он действительно ваш наставник?
– Да, разумеется.
– Продолжайте рассказывать.
– Он настоящий мудрец.
– В чем это проявляется?
– Он опубликовал книги по алгебре и все такое, и его очень ценят за границей. – Она неловко улыбнулась. – А почему я должна говорить?
– Потому что иначе вы очень напряжены.
– Вы давно окончили педагогический институт? – контратаковала она.
– Еще до войны, я был совсем молодым.
– Знаете что? Мне очень понравилось, что у вас в доме столько книг.
– Но ведь это нормально, – проявил скромность Ориол. – Да и не так уж много у меня книг.
– Сколько вам лет?
– Двадцать девять.
– Надо же, мы ровесники.
Вот тебе раз. Она только что призналась, что ей, как и мне, двадцать девять лет. А я думал – двадцать. Двадцать девять. Но где же ее муж?
– А как вы начали заниматься живописью?
Интересно, существует ли сеньор Сантьяго на самом деле, или это преграда, которую ты придумала для настырных кавалеров?
– У меня хорошо шло рисование, поэтому во время войны я окончил школу изящных искусств Ла-Льотжа.
– В Барселоне?
– Да. Я из района Побле-Сек. Вы бывали в Барселоне?
– Ну да, конечно. Я там училась.
– Где?
– В школе Святой Терезы в Бонанове.
Он украдкой бросил на нее взгляд. Школа Святой Терезы. Бонанова. Совсем другой мир в пределах одного и того же города. Его язык словно приклеился к пересохшему нёбу. Она между тем продолжала:
– Там я сформировалась духовно и интеллектуально, следуя указаниям дяди Аугуста, поскольку мой отец все время был в отъезде, он служил.
А мать?
– У меня очень плохие воспоминания о школе. Она располагалась в темном помещении на улице Маргарит.
– А у меня все наоборот. И когда я езжу в Барселону…
– У вас там дом?
– Да, конечно, потому что Сантьяго проводит там всю рабочую неделю.
А также месяц, год…
– Понятно.
– Обращайся ко мне на «ты». – Она сказала это неожиданно для себя, но очень уверенно, у нее возникло такое ощущение, будто она скользит вниз по нескончаемому каменистому спуску, отрадному, как сама отрада. И она падает, падает в восхитительную бездну…
– Что вы сказали?
– Когда ты захочешь отдохнуть, я попрошу принести чаю.
Бог мой, эта картина доведет меня до инфаркта. Мне не следует принимать это так близко к сердцу… Не знаю.
– Ты ведь не был на фронте?
– Нет, из-за проблем с желудком.
– Повезло. Тебе нравится учительствовать?
– Да, но не надо меня тянуть за язык. Рассказывайте сами.
– Что ты хочешь, чтобы я тебе рассказала, Ориол?
Бриллианты засверкали яркими переливами, хотя она даже не пошевелилась. Или это был блеск ее глаз?
6Вместо того чтобы спросить, кто вы, что вы хотите, открывшая дверь женщина молча и отстраненно смотрела на нее, словно погруженная в какие-то беспорядочные, но назойливые мысли, отвлекавшие ее от реальности. Ее лицо было испещрено сетью извилистых морщин – отпечаток нелегкой, но не сломленной жизни, приближавшейся к семидесяти годам. Наконец ее глаза пробуравили робкий взгляд Тины, которая, испытывая неловкость, спросила вы Вентура?
– Да.
– Старшая Вентура?
– Что, опять журналистка?
– Да нет, я… – Тина попыталась спрятать фотокамеру, но было уже поздно.
Она отчетливо увидела, как раздраженно сжалась удерживающая дверь рука, хотя на лице Вентуры это раздражение никак не отразилось.
– Девяносто пять лет ей исполнилось уже три месяца назад. – По-прежнему не теряя терпения: – Нам сказали, что больше никаких памятных мероприятий не будет.
– Дело в том, что я пришла совсем по другой причине.
– По какой же?
– Война.
Тина Брос даже не успела прореагировать, как женщина захлопнула перед ней дверь, оставив ее стоять на улице с глупым лицом и разочарованным видом, подобно охотнику, который, споткнувшись о корень, спугнул добычу. Она посмотрела по сторонам: вокруг не было ни души, и лишь пар от дыхания нарушал ее одиночество. На землю из холодного безмолвия вновь падали белые хлопья, и она подумала все-таки хорошо бы ей научиться убеждать людей. Пока она размышляла над тем, куда теперь двинуться, направо или налево, а может быть, зайти в кафе, дверь дома Вентуры вновь отворилась, и вздорная женщина, которая минуту назад захлопнула дверь перед ее носом, лаконичным, но властным жестом, не допускающим никаких возражений, предложила ей войти.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.