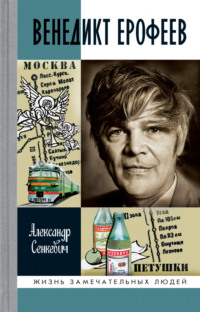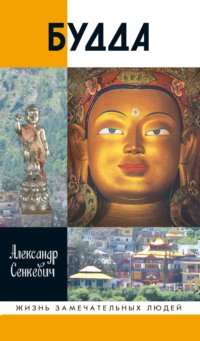Полная версия
Елена Блаватская. Между светом и тьмой
Во времена своего отрочества Елена Петровна с трудом переносила такое раздвоение. Ее изматывало присутствие в душе кого-то постороннего, без всякой учтивости, настырно влезающего в любой ее разговор со своими высокопарными словами, заставляющего вести себя в соответствии с его волей, перекраивающего всю ее по своему усмотрению и капризу. Этот невидимый для окружающих «некто» преображал ее изнутри до неузнаваемости, менял до такой степени, что она уже не воспринимала себя Лёлинькой, взбалмошной Лоло, а с ужасом ощущала кем-то еще, совершенно неизвестной ей личностью, которая была к тому же наделена по отношению к другим людям непомерными амбициями и серьезными претензиями. Она, спасаясь от этого наваждения, впадала в сон или в транс, долгий или кратковременный.
После пробуждения Лёля едва вспоминала кое-какие обрывки этого сна, мучилась головной болью и чувствовала себя совершенно разбитой.
С годами Елена Петровна все больше и больше укреплялась в духовном отщепенстве, свыклась с ним и ждала нового транса с необыкновенным воодушевлением. Она более детально запоминала происходящее с ее второй натурой и искренне удивлялась тому, что получила возможность без особых затруднений передвигаться во времени и пространстве. Этой невообразимой свободе она была всецело обязана, как впоследствии настаивала Елена Петровна, своим Учителям, «иерофантам», «иерархам света». Во взрослые годы она, «основываясь на опыте подобных, постоянно переживаемых ею психических состояний, разработала теорию двойников.
В таком странном состоянии она позволяла себе говорить и делать что угодно. И все же совсем не в этом заключалась ценность благоприобретенного дара. Действительный смысл был в том, что свои рассуждения, казавшиеся некоторым людям бессвязными и самонадеянными, она не из пальца высасывала, а выводила из сопоставления картин прошлого и будущего. Панорама дня вчерашнего и дня будущего разворачивалась перед ней без всякого принуждения, стоило ей только впасть в эту своеобразную летаргию. Ее провидческие экстазы не были легкими, они отнимали у нее здоровье, преждевременно старили.
Потом Елена Петровна осознала, что провидение будущего и воспоминания о далеком прошлом являются способностью памяти ее предков, которую она от них унаследовала. Как сейчас сказали бы, способностью генетической памяти, по разным причинам у Елены Петровны чрезвычайно обострившейся и ставшей объемной.
Разумеется, эти провидческие всплески ее сознания не занимали каждого мига ее неприкаянной жизни. Она жила преимущественно мгновением, сумбурной жизнью авантюристки. Ей приходилось выживать с помощью сомнительных средств и не задумываться о последствиях некоторых своих необдуманных решений и поступков. В то же время она переломила себя в главном, заставив жить не по любви, а в соответствии с идеями и поставленными целями. На склоне лет она почти утеряла способность понимать обыкновенную жизнь, отчего нередко впадала в тяжелую депрессию, никого не хотела видеть и неделями не выходила из своего дома в Лондоне.
Она, не думая уже о необходимости зарабатывать себе на хлеб насущный, пыталась превратить долгий сон в психотерапевтическое средство.
Новые страшные видения и кошмары настолько ее ошеломляли, что, придя в себя, она едва слышно произносила пересохшим ртом малозначительные слова и долго после этого мучилась бессонницей. Следствием такого нервного перенапряжения стал для нее сахарный диабет.
Перед погружением в сон ее часто мучил набирающий силу скрежещущий звук, словно купол неба вдруг стал железным и, раскачиваясь, задевал и царапал землю. Казалось, началось светопреставление. Кали-юга – черная эпоха приходила к своему завершению. А затем снова рождалось солнце нового «золотого века». Один мировой цикл сменялся другим, и появлялись новые земля и небо.
Все развивается циклично, возвращается в конце концов на круги своя.
Согласно представлениям индусов, установился на земле Черный век, Кали-юга. Век ужасный, при котором земля под ногами человека – шаткая и затягивает в себя, как трясина, а путь, по которому идет человек за своим бессмертием, освобождаясь от тяготения сансары, – одно бездорожье и ведет в никуда. Человек шарахается на этом пути из стороны в сторону, то налево, то направо. А стоять твердо посередке мало кто из людей умеет и хочет.
Она во сне видела тупые и сытые лица палачей, методично забивающих людей, как скот на бойне. Елена Петровна чувствовала, как седеет – ее золотистые, в мелких кудряшках волосы превращались в извивающихся серебристых змеек. На поверку получалось что-то совсем противоположное ее мечтаниям. Упорное подстегивание людей ко всеобщему счастью дало не то чтобы убогий, а совершенно отвратительный результат.
Блаватская узнала правду – в подготовке всемирной бойни было ее подспудное участие, ее идейное благословение. Ей стало невыносимо страшно в своем провидческом сне. Она бежала в отчаянии мимо просторных загонов, в которых находились, ожидая смерти, истощенные, сбившиеся в огромные толпы люди, мимо вырубленных садов и разрушенных церквей. Она бежала со всех сил обратно, в свое время. Она ныряла в мертвые воды Стикса с единственной надеждой – избавиться навсегда от сострадания и от любви к людям. В этой маслянистой, со свинцовым отсветом, воде забвения находились ответы на все вопросы ее многострадальной жизни.
Личная жизнь не удалась Елене Петровне. С детских лет она была поражена силой страстной и высокой любви к никому не известному индийцу в белых одеждах. Она часто думала о нем и представляла его то разряженным с восточной роскошью принцем, то скромным монахом. Образ «Учителя» не зависел от силы ее воображения, как она себя убедила, он присутствовал в ней изначально, был присущ только ей, как тембр голоса или как ярко-синие, с желтыми искорками глаза.
Она приходила в неистовый священный гнев, когда кто-то пытался усомниться в его существовании или представлял мнимой его мудрость. Она разносила из страны в страну весть о своем «Учителе» и его друзьях с такой настойчивостью, словно делилась со всем миром несказанной радостью, переполнявшей ее сердце.
Из чувства сиротства и одиночества родилась ее первая и единственная любовь. В каком-то смысле это была любовь к самой себе – заброшенной взрослыми, взбалмошной девочке, которую домашние называли Лёлей или Лоло, а чужие – Еленой.
Блаватская любила уединение, и в то же время ее прельщала многолюдность, в которой она чувствовала и вела себя, как акула среди мелких рыбешек. Она постоянно пребывала в смятенном расположении духа и на одни и те же вещи в зависимости от настроения и меняющихся привязанностей смотрела по-разному. Минутное и иногда безотчетное побуждение заставляло ее поступать не так, как ей хотелось бы. И все же Елене Петровне, испытавшей измены и разочарования в людях, были чужды злоба, недоверчивость и мстительность. Ей зачастую приходилось прибегать к притворству и показной скромности: а как еще ей было защитить себя от низости и коварства ничтожных людей?
В устных рассказах самой Блаватской вообще нет никаких упоминаний о первой поездке их семьи на Северный Кавказ, в Кисловодск – известный курорт того, как, впрочем, и нынешнего, времени, где ее мать Елена Андреевна пыталась поправить свое здоровье.
Сестра Блаватской с благодарностью описывает жизнь у бабушки и дедушки, их гостеприимный дом в Саратове. Кроме них в этом доме жили мамины сестры Надежда и Екатерина, которая вскоре вышла замуж за Юлия Витте.
Вот что пишет Вера Петровна:
«Теперь надо еще сказать, что бабушку мы всегда называли бабочкой, почему – сама не знаю… Вероятно, объяснение этому прозванию находилось в том, что бабушка, очень умная, ученая женщина, между прочими многими своими занятиями любила собирать коллекции бабочек, знала все их названия и нас учила ловить их. Оба они, и дедушка, и бабушка ничего на жалели, чтобы тешить и забавлять нас. У нас всегда было множество игрушек и кукол; нас беспрестанно возили кататься, водили гулять, дарили нам книжки с картинками. <…> Дом дедушки, который я ночью приняла за фонарь, был в самом деле большой дом, с высокими лестницами и длинными коридорами. В нижнем этаже жил сам дедушка и помещалась его канцелярия. В самом верхнем были спальни: и бабушки, и тетины (Екатерины Андреевны и Надежды Андреевны. – А. С.), и наши. В среднем же почти никто не спал; там все были приемные комнаты, – зала, гостиная, диванная, фортепьянная».
Важная деталь: в их длинной, невысокой детской не было другого света, кроме яркого огня в печи. Печь была широкая, русская, украшенная изразцами и с большой лежанкой. Распластавшись на этой печи, Лёля и Вера очень любили слушать сказки, которые им рассказывала крепостная няня, бабушка Настя. Так и представляешь комнату с таинственными, скачущими в такт пламени тенями на стенах и потолке. Не бессмысленные и случайные тени, а диковинные арабески, сложенные из загадочных, но имеющих объяснение фигур и экзотических черно-белых цветов и листьев, которые непостоянны, недолговечны и от которых невозможно оторвать взгляда, как и от горящих и неожиданно стреляющих в печном зеве поленьев. При этой игре света и тени вся комната наполняется колеблющимися лицами и фигурами, беспрестанно меняющимися и оттесняющими друг друга.
В унисон этому слаженному хору огня и теней звучит хрипловатый, устрашающий голос няни, бабушки Насти, воспитавшей два поколения Фадеевых и рассказывающей им, детям, сказку о злой ведьме и Иванушке. Крепостная женщина, бабушка Настя в общении с Лёлей и Верой исходила из гуманного педагогического принципа, что детей надо брать лаской и уговором, но ни в коем случае нельзя их воспитывать подзатыльниками, пинками и шлепками.
Огонь помаленьку догорает, и в его багровых отблесках комната кажется огромной. Наконец наступает обволакивающая темнота. Не видать ни зги. Глаза пытаются нащупать в темноте лица и предметы – темно-синяя стена мрака. Тогда зрение устремляется вовнутрь, а как только чуть-чуть развиднеется, очертания неведомого мира проступают за слабой серой дымкой «посюстороннего».
Так открываются духовные очи. Они, только они способны различить и понять заветнейшие мысли, сокровенные тайны и глубокие чувствования.
Елене Петровне было недостаточно реальной, обыденной жизни, потому-то своим буйным воображением она творила, противопоставляя скучному существованию жизнь иную – затаенную, таинственную, загадочную. Эта непохожая ни на что жизнь уподоблялась ее снам, в которых часто возникали картины предыстории человечества. Иногда она слышала рев давным-давно исчезнувших с земной поверхности животных. Звездное небо над ее головой было незнакомым и неузнаваемым, так же как и шумы и шорохи таящей опасности ночи. Она, напуганная этими видениями, открывала глаза. Прочувствованное и увиденное ею во время сна не исчезало без всякого следа, а частично, обрывками оставалось в реальности, просачивалось, как кровь, сквозь бинты здравого смысла и эмпирического опыта, которыми ее плотно обматывали, пеленали чуть ли не с самого рождения.
Блаватская искренне уверовала, что без этих знаков потустороннего, этих отсветов прошлого ее собственная жизнь окажется неизжитой, будет провалом в несущемся куда-то пространстве. К тому же с детских лет она была подвержена необыкновенным галлюцинациям. Она умела, впадая в транс, в течение долгого времени видеть наяву то, что для большинства людей тут же растворяется в воздухе. Уже в Америке эта нервная болезнь окончательно определилась и диагностировалась как эпилептическая аура. Врачам известно, что заболевшие этой болезнью люди часто слышат какой-то невидимый голос и видят какие-то предметы. Этим заболеванием страдали как выдающиеся мужчины, так и женщины. Например, Елена Ивановна Рерих. Будем сострадательны к двум Еленам, понимая, что любой прорыв в запредельное почти всегда сопрягается с какой-то аномалией в психике человека.
Сколько раз взрослые находили ее дрожащей и до смерти напуганной в каком-нибудь углу просторного саратовского дома. Никто из них не мог себе представить, что она буквально за минуту до своего обнаружения видела перед собой что-то невообразимо жуткое и зловещее.
К тому же она обладала фантазией неистощимой выдумщицы, и эта ее способность завираться до неприличия с годами развилась еще больше.
Вера вспоминает сестру Лёлю шалуньей, насмешницей и хохотушкой, чрезвычайно любопытной ко всему, что было непонятно и скрыто от ее внимательных и цепких глаз. Однажды сразу после причастия Лёля неприятно поразила близких какой-то неуемной бесшабашной веселостью. ««А ты-то, Лёля, большая девочка, только что от исповеди и громче всех хохочешь! Не стыдно ли?» – пыталась ее урезонить мама».
Еще более странные вещи проявились во взаимоотношениях старшей сестры с младшими детьми. Свою вину она запросто могла переложить на другого человека. И это делалось не из страха быть изобличенной в чем-то нехорошем, а исключительно ради куража, ради потехи и упрямства. Так, находясь на даче под Саратовом, Лёля, играя, камнем случайно убила гусенка, который принадлежал живущей по соседству сторожихе, и тут же свалила это убийство на младшую сестру.
Лёля была нестандартным ребенком. Самолюбивая и гордая, она пыталась первенствовать всегда и во всем, чего бы ей это ни стоило. Максималистка, она искренне хотела, чтобы мир вокруг нее был совершенен.
«– Гадкая птица ворона! Я ее не люблю, – сказала Лёля бабушке.
– Чем же она гадкая?
– Некрасивая, неуклюжая, черная, толстая. А как захочет запеть, так противно каркает.
– Чем же она виновата, что ее Бог такою сотворил? – сказала бабушка. – Значит, ты всех некрасивых не любишь? Вот и я тоже толстая, неуклюжая и петь не умею, так ты и меня за это не будешь любить?
– Ну, вот еще, бабочка! Что это вы говорите? – сконфуженно пробормотала Лёля, вся покраснев…»
Ничего удивительного, что в семье ее не то что недолюбливали, а держались с ней настороже, ожидая какого-нибудь подвоха.
У Лёли не прекращались конфликты со взрослыми. Она хотела поступать по-своему – они требовали от нее послушания. Взрослые ее раздражали. Екатерина Андреевна, ее тетя, на плечи которой легла забота о детях ее старшей сестры, одно время изрядно баловала Лёлю. Понимая, что ей многое позволяется, девочка совсем отбилась от рук. Тетя Катя пыталась исправить огрехи своего воспитания, но было уже поздно. «Другие в твои годы сами помогают родным в воспитании младших детей. А ты только усложняешь и отравляешь мне жизнь своим безрассудством!» – укоряла ее мамина сестра. Однако на Лёлю мало действовали подобные взывания к ее совести. Она злилась, когда кто-то пытался поставить ее на место. Девочке представлялось, что ее свободе приходит конец, и она впадала в панику.
В эти тягостные для нее минуты Лёля обращалась за помощью к таинственному незнакомцу (ангелу-хранителю?), которого она одна ощущала горячей, неискушенной душой и сердцем и о существовании которого никто вокруг нее до определенного времени не должен был догадываться. Она любила его одного так сильно и глубоко, как любят только идеал или неосуществимую мечту.
С членами семьи у Лёли возникали бесконечные конфликты, будто они общались на разных языках. Она часто выходила из себя и сгоряча наговаривала невесть что на любящих ее людей. Эта импульсивность характера передалась от матери: для них обеих творческий мир был несравненно выше всего остального. Так, любая критика в ее адрес или обычное несогласие с ее взглядами воспринимались Блаватской с неслыханной обидой, вызывали негодование, иронию и сарказм в отношении тех, от кого эти замечания исходили. Вместе с тем, как вспоминает сестра Вера, она была «в сущности предобрая, а только своевольна и насмешлива до крайности». Мать и дочь жили по особым меркам. Думается, что втайне они относили себя к аристократкам духа. Мать и дочь по-настоящему волновала одна мысль, которую они не решились бы произнести вслух, – найдут ли их произведения свое место в России будущего?
Отец также боготворил и баловал свою любимицу – старшую дочь. Петр Алексеевич позволял ей делать, что вздумается. И девочка словно сорвалась с привязи, стала заносчивой и дерзкой. При неблагоприятном стечении обстоятельств такая вседозволенность обязательно принесла бы совсем горькие плоды, не будь бабушки Елены Павловны, которая пыталась обуздать капризный и своенравный характер внучки.
Труженица, она и детей своих приучила не бить баклуши, всех поставила на ноги. Сын Елены Павловны, Ростислав Андреевич Фадеев, впоследствии артиллерийский генерал, был видным деятелем в славянских землях и известным военным писателем 70—80-х годов XIX века. Образованный и остроумный, он неудержимо привлекал к себе людей. В дяде Ростиславе, да еще в сестре Вере, а в более поздние годы и в ее детях, Елена Петровна очень нуждалась. Только они питали и поддерживали ее героическое и романтическое жизнелюбие. Ее любовь к миру, всеохватная и грандиозная, утверждалась большей частью в отстраненности от каких-либо личных привязанностей. Только родные составляли исключение.
Для понимания психологии Елены Петровны и ее матери весьма существен один момент: их как бы одновременное пребывание в двух реальностях – художественной и повседневной, бытовой.
Для матери такая двойственность положения обернулась трагедией. В повести «Идеал» героиня видит выход из сложившейся ситуации в вере и приобщении к Богу: «…я постигла, наконец, что если женщина по злой прихоти рока или по воле, непостижимой для нас, получает характер, не сходный с нравами, господствующими в нашем свете, пламенное воображение и сердце, жадное любви, то напрасно станет она искать вокруг себя взаимности или цели существования, достойной себя. Ничто не наполнит пустоты ее бытия, и она истомится бесплодным старанием привязаться к чему-нибудь в мире. Неземные привязанности могут удовлетворить ее жажду. Ее любовью должен быть Спаситель, ее целью – небеса».
Для самой Блаватской этот путь – заведомо тупиковый, она не уповает на милосердие Божие. Церковное христианство, как она позднее полагала, не способно более управлять человеческой совестью. Этот отход от церкви произошел, разумеется, не в детские и отроческие годы Елены Петровны, а значительно позднее, в годы ее странствий по миру. И все-таки зерна бунта против христианской веры появились тогда, в конце сороковых годов, и были порождены одной из малоприятных черт ее характера – своеволием.
Вот почему Блаватская нередко позволяла себе кощунствовать, юродствовать и лукавить. По воспоминаниям сестры, она еще с детства примеряла роль сокрушительницы привычных духовных устоев, используя для этого «красноречивую откровенность». Вне христианства Блаватская жила авантюристически вольготно, а последние шестнадцать лет своей жизни всецело увлеклась конкретным делом: оформляла свои мистические прозрения в определенную организацию, в иерархическую и жесткую систему, в новую церковь – Теософическое общество. Поэтому-то не стоит, читая ее письма соотечественникам или работы, в которых есть упоминание о христианстве, выковыривать из них, как изюм из сдобной булки, христианские максимы. Не была Елена Петровна Блаватская христианкой! Как это ни печально. Уже с середины 60-х ее потянуло в мир совершенно других духовных авторитетов.
С ранних лет Блаватская стремилась к духовному и умственному общению – наиценнейшему дару русского человека. По ряду причин сугубо семейного, личного характера такое общение постепенно вырождалось в демонстрацию ее оккультных способностей.
Последовательница учения Блаватской, известная русская теософка Е. Ф. Писарева, основываясь на воспоминаниях В. П. Желиховской, которые относятся к детству Елены Петровны, была убеждена в том, что «Блаватская обладала ясновидением; невидимый для обыкновенных людей астральный мир был для нее открыт, и она жила наяву двойной жизнью: общей для всех физической и видимой только для нее одной! Кроме того, она должна была обладать сильно выраженными психометрическими способностями, о которых в те времена на Западе не имели никакого представления. Когда она, сидя на спине белого тюленя и поглаживая его шерсть (в зоологическом музее Е. П. Фадеевой в Саратове. – А. С.), рассказывала детям своей семьи о его похождениях, никто не мог подозревать, что этого ее прикосновения было достаточно, чтобы перед астральным зрением девочки развернулся целый свиток картин природы, с которыми некогда была связана жизнь этого тюленя.
Все думали, что она черпает эти увлекательные рассказы из своего воображения, а в действительности перед ней раскрывались страницы из незримой летописи природы».
Многие волшебные и чудесные истории из жизни Блаватской дошли до нас в меньшей степени из рассказов очевидцев – ее сестры Веры и тети Надежды, а в значительно большей степени – от двух соратников Елены Петровны по теософской деятельности: американца Генри Стила Олкотта и англичанина Альфреда Перси Синнетта. Понятно, что Блаватская, создавая Теософическое общество и утверждая в нем свой культ, эти рассказы им сама и озвучивала, когда находилась в приятном расположении духа и в приподнятом настроении. В хорошей компании, при заинтересованных слушателях она часто давала необузданную волю собственной фантазии. А потом уже эти мифы стали кочевать из одной теософской книги в другую.
В историю тюленя еще можно было бы поверить, в ней нет ничего сверхъестественного, а вот во многие другие, например, связанные с духом Теклы Лебендорф из Норвегии, под диктовку которой девочка Лёля записывала сообщения с того света, и ее сумасшедшим, живущим в Берлине сыном – увольте! Еще к этому добавим, что племянник Теклы Лебендорф находился рядом с Лёлей, он служил в полку ее отца. Но так или иначе подобные свидетельства оккультных способностей Елены Петровны Блаватской, изложенные Синнеттом и опубликованные при жизни основательницы теософии в 1886 году, переносят нас в ее мифологизированное детство. Ведь у великих и святых людей их сверхъестественная одаренность, как полагают агиографы, проявляется чуть ли не с пеленок. И с этим заявлением приходится считаться.
В общении Блаватской с природой и людьми соседствовали детская наивность и определенный расчет: она любила подурачиться, однако все свои проделки и проказы пыталась объяснить серьезными причинами. И это качество она унаследовала от отца: Петр Алексеевич мог обескуражить человека каким-нибудь ехидным замечанием или ироническим поворотом мысли.
Лёля была храброй до безрассудства, и в то же время ее нередко охватывал безотчетный страх. Может быть, этот страх был порождением ее галлюцинаций? Ее часто преследовали, как она признавалась, ужасные, светящиеся глаза. Она шарахалась подчас от неживых предметов, уверенная в том, что это недобрые «привидения», которые способны причинять вред. Она забалтывала детей невероятными историями, преподнося их таким образом, словно была в них главным действующим лицом. Она произвольно творила мир, словно держала перед глазами калейдоскоп и встряхивала разноцветные битые стеклышки – получались волшебные, завораживающие узоры.
Ей никогда не приходило в голову, что участниками этих удивительных и смелых фантасмагорий были не куклы, а живые люди. Но чего не сделаешь, на что не пойдешь ради общения с неизведанным!
Настоящие приключения между тем ждали детей не в саратовской резиденции губернатора, а в загородном доме, в одной из так называемых двух дач, куда семья Фадеевых перебиралась ближе к лету. «Дом был старинный, каменный, с расписными потолками в цветах и амурах; с двумя балконами, опиравшимися на толстые колонны, с густым сиреневым палисадником. Один балкон спускался в него боковыми ступеньками; другой, побольше, выходил к трем густым липовым аллеям, которыми начиналась роща. Невдалеке аллеи эти перерезывал провал, все увеличивавшийся от дождей и превращавшийся далее, влево, в глубокий овраг, приводивший к Волге» – так Вера Петровна Желиховская описывает большой летний губернаторский дом, находящийся на опушке леса, практически на окраине города. Более подробно она описывает этот дом, оставивший в ее памяти незабываемое впечатление, во второй книге своих воспоминаний «Мое отрочество». Такое ощущение, что его она видит глазами старшей сестры: «…в одной из зал было чудное эхо, а на потолке была нарисована красивая женщина, вся в цветах, которая, как я подозревала, сама откликалась на мой голос. Это был действительно огромный дом, где несмотря на вечную сутолоку гостей все же много комнат, в особенности в верхнем этаже, оставались незанятыми. А уж о его подвальном этаже ходили целые легенды: о несчастных, которых кто-то когда-то будто бы морил голодом, мучил пытками в этих маленьких темных комнатах на сводах, о том, что и поныне слышны по ночам их плач и стоны и что многие ведали там привидения и разные страхи».
Это громадное здание настолько много значило в их детстве и отрочестве, что сестра Елены Петровны пытается вновь и вновь восстановить в памяти все его архитектурные особенности. Это был роскошный барский дом «с подземными галереями, давно покинутыми ходами, башнями и укромными уголками. Это был скорее полуразрушенный средневековый замок, чем дом постройки прошлого века. Нам было разрешено в сопровождении слуг обследовать эти старые «катакомбы». Мы в них нашли больше битого бутылочного стекла, чем костей, и больше паучьих сетей, чем железных цепей, но в каждой тени, отраженной на стене, нашему воображению чудились какие-то духи. Однако Елена не ограничивалась одним-двумя посещениями, оказалось, что это страшное место она сделала своим убежищем, где укрывалась от учебных занятий. Много времени прошло, пока это убежище не было обнаружено. Каждый раз, когда Елена исчезала, на поиски ее посылали большую группу прислуги во главе с тем или иным «жандармом», человеком, который не побоялся бы выловить ее силой. Из сломанных столов и стульев она соорудила в углу, под окном, закрытым решеткой, некое подобие башни. Там она долго пряталась, читая книгу с разными легендами, которая называлась «Мудрость Соломона». Раза два ее лишь с большим трудом удалось найти где-то в сыром коридоре, так как, стараясь избежать погони, она зашла в лабиринт и там заблудилась. Но это ничуть не испугало ее, ибо она утверждала, что никогда не бывала там одна, а всегда в обществе своего «маленького горбуна» – ее товарища по играм. Она была сверх меры нервной и чувствительной, во сне громко говорила и часто ходила во сне. Случалось, что ее находили ночью, крепко спящей в далеких от дома местах, и когда ее уносили наверх в ее комнату, то она при этом не просыпалась. Однажды, когда ей было двенадцать лет, ее нашли в таком состоянии в одном из подземных коридоров, разговаривающей с каким-то невидимым существом. Лёля была совершенно необыкновенной девочкой, по природе двойственной: с одной стороны – боевой, озорной, упрямой, с другой же стороны – мистически настроенной, со стремлением ко всему метафизическому. Ни один мальчишка школьного возраста не был таким озорным, совершающим самые невероятные проказы, какой была Лёля. Но когда кончались шалости, ни один ученый не мог быть более прилежным в своих занятиях. Ее нельзя было оторвать от книг, которые она глотала днем и ночью. Казалось, вся домашняя библиотека не сможет удовлетворить ее жажду знаний».