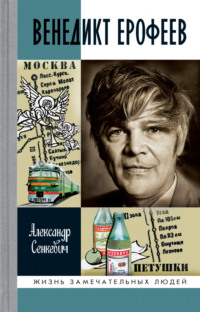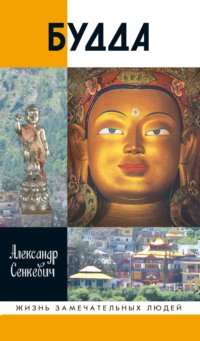Полная версия
Елена Блаватская. Между светом и тьмой
При скромном жалованье у жениха были хорошие служебные перспективы. Его будущий тесть князь Павел Васильевич Долгоруков сам тогда находился в стесненных обстоятельствах по причине расстройства своего состояния и жил на одну пенсию. Учитывая возраст князя, у него вообще не было никаких надежд улучшить свое положение. Рассчитывать на карточный выигрыш не приходилось – потерял бы последнее. Ему почему-то не везло не только в любви, но и в картах. И все-таки он вместе со своей тещей упрямо стоял на своем, и согласия на брак молодые так и не получили. Обойдясь без родительского благословения, они повенчались в феврале 1813 году, имея в кармане жениха всего сто рублей ассигнациями. В следующем году на свет появилась мать Елены Петровны Блаватской – Елена Андреевна. Спустя некоторое время после ее рождения молодая семья переехала в Екатеринослав, где Елена Павловна родила трех младших детей – Катю в 1821 году, Ростислава в 1824 году и Надю в 1827 году.
Бабушка Блаватской, Елена Павловна Фадеева, знала пять иностранных языков, прекрасно рисовала и, будучи художницей, интересовалась преимущественно чешуекрылыми, а проще говоря – бабочками, а также растениями и минералами.
С ней находились в переписке многие естествоиспытатели. Среди них Стевен, академик Бэр и профессор Дерптского университета Г. В. Абих, который был избран в Российскую академию наук в 1853 году за научные труды по описанию Кавказского края. Бабушку Елены Петровны ценили Карелин и Вернель. А Гомер де Гель в своих работах упоминает о ней как о замечательной ученой женщине, немало способствовавшей ему в его научных разысканиях. Президент Лондонского географического общества сэр Родерик Мурчисон, приехав в Россию, встречался с Еленой Павловной Фадеевой в Саратове и назвал в ее честь одну из ископаемых раковин.
Популярности на Западе выдающейся русской женщины-аристократки, безусловно, способствовала высокая оценка ее интеллектуальных возможностей со стороны известной английской путешественницы леди Стенхоуп. Эта экзальтированная и любознательная дама встретилась с Еленой Павловной в том же Саратове и была немало удивлена тем, что подобные высокообразованные женщины встречаются в столь варварской стране, как Россия. Естественно, своим открытием она поделилась с английскими читателями в очередной книге.
Со всей своей ученостью, интересом к естествознанию, любовью к чтению серьезных философских книг, ярко выраженными способностями к рисованию и музицированию Елена Павловна Фадеева была вместе с тем, в сущности, обычной русской дворянкой из обедневшего княжеского рода. Для нее дом и семья всегда находились на первом месте. Она любила стряпать и рукодельничать. Ее внучка Вера вспоминала: «Кроме всяких вышиваний, вязаний, плетений бабушка умела делать множество интересных работ. Она делала цветы из атласа, бархата и разных материй. Она клеила из картона, раковин, цветной и золотой бумаги, из битых зеркальных стекол, из бус и пестрых семечек такие чудные вещи, что чудо!»
При всех глубоких и разносторонних познаниях в науке и присущей ей домовитости Елена Павловна вовсе не чуждалась светских удовольствий. Ее муж шел по служебной лестнице не быстро, но и не медленно и со временем сделался гражданским губернатором в Саратове. Она любила чистокровных английских лошадей, крытые лаком экипажи, давала балы и званые обеды.
За что бы Елена Павловна ни бралась, она старалась сохранять хороший вкус и достойный положения просвещенной губернаторши уровень.
Атмосферу дворянских празднеств того времени, происходивших в Саратове, детально и красочно описала мать Блаватской в своей повести «Идеал»:
«Дом дворянского собрания был великолепно освещен; плошки на воротах, плошки у подъезда; кареты, коляски, брички, сани везли целые грузы бабушек, маменек, дочек, внучек; собрание было блистательное. Два жандарма, стоявшие у крыльца, не успевали отгонять опорожненных экипажей. Канцелярские стряхивали снег с своих шинелей, артиллеристы, смотря с улыбкой презрения на этих фрачников, гордо расправляли усы и всклокоченные волосы. Но то ли еще было в зале! Четыре люстры величаво спускались с потолка; вдоль стен расставлены были диваны, крытые оранжевым ситцем с зелеными узорами, а на передней части залы под огромным зеркалом стояли два кунсовые кресла. На хорах тринадцать человек музыкантов сидели в ожидании входа губернатора с поднятыми смычками, готовясь огласить залу при его вступлении полонезом из «Русалки». Диваны были уже заняты дамами всех возрастов и чинов; статские смиренно расхаживали по зале с круглыми шляпами в руках; кавалеристы с нетерпением бряцали шпорами; старики умильно кружились подле расставленных карточных столов, но никто не начинал ни танцевать, ни играть. Общество походило на огромного истукана, для которого душа не была еще ассигнована. Кое-где мужчина, проходя за диванами, останавливался позади девицы и, наклонясь, шептал ей, вероятно, что-нибудь очень приятное, потому что улыбка вдруг расцветала на устах девушки и, глядя на нее, маменька самодовольно поправляла свой чепец».
Пригласительные билеты на бал или званый обед бабушка Блаватской Елена Павловна давала распоряжение печатать на роскошной веленевой бумаге. А в исключительных случаях – на пергаменте.
Столы были уставлены серебряной посудой. Наряду с русской кухней присутствовала кухня французская и немецкая. Подавали янтарное токайское вино, красноватый шамбертен и обязательно шампанское. Умели, когда позволял достаток, пожить в свое удовольствие русские дворяне! Вместе с тем не эти праздники жизни были главной заботой Елены Павловны Фадеевой.
Больше всего на свете она ценила основательное образование, которое постаралась дать своим детям и внукам. Она не перекладывала воспитание детей целиком на плечи крепостных мамок и выписанных из-за границы или обрусевших иностранных гувернанток. Свою старшую дочь Елену она обучала многим наукам, пока той не исполнилось тринадцать лет. А потом, когда Елена Павловна серьезно и надолго заболела, девушка сама с жадностью набросилась на книги, словно черпая в них жизненную силу. Гувернантки с ней почти не занимались. Да и финансовое положение их семьи не позволяло сорить деньгами. А. М. Фадеев взяток не брал, жил на зарплату, долгое время остававшуюся весьма скромной. В семье привыкли на всем экономить, хотя ее глава занимал достаточно «хлебные» места и при желании мог серьезно разбогатеть. Поступать подобным образом ему не позволяла совесть. Жить на одну зарплату для русского чиновника во все времена и при всех правителях – непозволительная роскошь или же чудовищное невезение.
Книги растормошили застенчивую и угрюмую девушку, мать Блаватской, которая среди своих сверстниц слыла белой вороной. Уже с малых лет она овладела искусством версификации. Однако стихи выходили из-под ее пера не такими, какими ей хотелось их видеть. Обыкновенные, вялые слова не передавали живых, непосредственных чувств. Они в большей степени соответствовали бесплодной, обступившей со всех сторон и простирающейся до горизонта степи, высушенному под белесым солнцем ковылю.
К 1834 году были упразднены конторы иностранных переселенцев. Попытка сократить многочисленный штат чиновников, как это часто происходит в России, на деле оказалась переливанием из пустого в порожнее. Шло обычное перемещение бюрократии в обширном пространстве империи. Но как показывает конечный результат этих служебных пертурбаций, в итоге ничего существенного не происходит, – к старым чиновникам прибавляется большое число новых. А. М. Фадеев был определен членом нового Попечительного комитета Главного управления иностранных поселений южного края России с тем же самым содержанием и направлен на жительство в Одессу.
Для него как для порядочного человека и неподкупного чиновника такое изменение в судьбе явилось в известной степени испытанием. Одесса для проживания была более дорогим городом, чем Екатеринослав. К тому же пришлось продать за бесценок дом с прекрасным огромным садом и много чего другого, чем обрастает человек, живя несколько лет на одном месте. Многолетняя счастливая жизнь в Екатеринославе закончилась. А как говорил Конфуций: «Нет ничего хуже, чем жить в эпоху перемен». (Этот парадокс мировой истории справедлив и по сей день.)
В самом начале переезда семейства Фадеевых в Одессу, казалось, ничто не предвещало беды. Глава семьи вспоминал о начальном периоде жизни в Одессе: «Мы решились переехать и, дабы хоть немного уменьшить необходимые расходы на жизненные потребности и хозяйство, – купить в окружностях Одессы небольшое именьице. Я поехал в Одессу прежде всего один и приискал подходящее именьице в сорока верстах от Одессы, деревню Поляковку… Весною 1834 года переехало в Одессу и мое семейство».
В этом именьице (всего-то помимо усадьбы там был один двор с шестью крепостными – трое мужского пола и трое женского) немало времени провели все члены многочисленного и дружного семейства Андрея Михайловича Фадеева, в том числе и его старшая дочь Елена Андреевна Ган с детьми. Надежда Андреевна Фадеева, тетя Блаватской, спустя много лет после смерти своей старшей сестры Елены Андреевны вспоминала Одессутого времени как город с необыкновенной праздничной атмосферой:
«Одесса тогда была в апогее своего общественного развития и оживления, генерал-губернатор граф Воронцов и графиня Елизавета Ксаверьевна Воронцова, как магнитом, притягивали к себе со всех концов Европы людей, служивших украшением лучших обществ. Тогда в Одессу съезжалось много польской знати, многие и русские тузы селились в ней, привлекаемые южным климатом и морем. Большая часть из них жили открыто, широко, и зимой блестящие балы и увеселения всякого рода следовали одни за другими, <…> начиная с еженедельных понедельников Воронцовых».
В Одессе А. М. Фадеев проработал чуть больше года. В конце 1835 года последовал его перевод в Астрахань главным попечителем кочующих народов с порядочным пособием на этот переезд.
Глава четвертая
Мать и дочь
Лёля, как сквозь сон, вспоминала знойную, обожженную степь и встающий над ровной и равнодушной ко всему землей медно-красный шар, ее утешение и надежду. При смутном воспоминании о солнце своего младенчества ее душа преображалась. Но не в силах небесного светила было передать, чем жила мятущаяся душа ее матери, – этот неуклюжий чертополох с лилово-красными вспышками цветов среди колючек. Екатеринослав сам по себе наводил скуку, между делом умерщвлял живую душу. Город-неудачник, он мстил людям за свое унижение. История – вот тот оселок, на котором старшая дочка Елены Павловны оттачивала свое воображение, основное оружие в противоборстве с рутинным существованием. К пятнадцати годам в ее сердце заключался весь мир.
От поклонников у Елены Андреевны не было отбоя. Темноволосая красавица с выразительными миндалевидными глазами и тонкой талией, она сводила с ума многих молодых людей. Однако никому из этих ухажеров не удавалось склонить ее к замужеству. Для нее любовь и замужество были тождественными понятиями.
Она жила в мире исторических отражений, обитателями которого были мужественные, благородные и справедливые воины. Потому нет ничего удивительного в том, что ее выбор пал на капитана конно-артиллерийской батареи Петра Алексеевича Гана, героя Турецкой кампании, старше ее на пятнадцать лет. Она венчалась с ним полуребенком, ей едва исполнилось шестнадцать. Ее муж оказался по натуре человеком незлобливым, хорошо начитанным, ведь он получил воспитание в аристократическом Пажеском корпусе и говорил на нескольких иностранных языках.
Елена Андреевна была нежным существом, мало приспособленным к условиям суровой походной жизни. К несчастью, брак оказался для нее неудачным. Для мужа ее духовная деятельность, ее литературные интересы не только мало что значили – они вызывали недовольство и насмешки. Петра Алексеевича уродовала армейская жизнь. Он предпочитал вист – театру, скачки – музыкальным вечерам, пьяное застолье – чтению книг.
Елена Андреевна вышла замуж стремительно, за три месяца до выступления полка мужа в поход на Польшу для подавления Польского восстания. Вскоре она поняла, что совершила роковую ошибку, этим браком обрекла себя на раннюю смерть.
В одной из повестей Е. А. Ган «Суд света» есть вставка – «Письмо Зенеиды Н.» – точное воспроизведение ее внутренней драмы:
«Едва я вступила в свет, как многие уже искали было руки моей, но я отвергла все предложения… Привыкши считать любовь и супружество нераздельными, я смотрела на них с особенной точки зрения. Посреди общего крушения моих светлых идей, одна только сохранилась во всей силе своей – идея о возможности истинной вечной любви. Я уповала на нее, верила в осуществление моей утопии, как в жизнь свою, и, нося в груди зародыш священного чувства, не истрачивала его на мелочные привязанности, берегла как дар небес, который мог осчастливить меня только однажды в жизни».
Замужество обозначило перелом в ее судьбе. Жизнь ее, однако, не пошла на улучшение, а повернулась в худшую сторону. Люди они были уж больно разные:
«Между тем тонкий, веселый ум моего мужа, приправленный всею едкостью иронии, ежедневно похищал у меня какое-нибудь сладкое упование, невинное чувство. Все, чему от детства поклонялась я, было осмеяно его холодным рассудком; все, что я чтила как святость, представили мне в жалком и пошлом виде».
Ситуация довольно-таки обычная для образованной и духовно развитой женщины той эпохи. Тут были даже ни при чем моральные качества Петра Алексеевича Гана. Он жил как все люди его круга и поступал соответственно – как того требовало положение русского офицера. На долю его молодой жены, можно себе представить, выпало немало бытовых трудностей, но намного больше – горечи и обид.
Что оставалось в памяти Елены Андреевны от походной жизни с мужем? Сырые ночи, от которых ее болезнь набирала силу, грубые армейские шутки товарищей мужа, густой табачный дым, взаимные упреки, ссоры и постоянная беременность. Самым приятным среди этого кошмара было вспоминать, как денщик мужа по несколько раз в день вздувал самовар: из-под низа сыпались совсем не обжигающие искры, и вскоре на столе появлялись кружки с ароматным чаем, – в эти мгновения ее неудержимо тянуло в родительский дом. Там жили дорогие и духовно близкие ей люди – мать, сестра и брат. Там были книги, долгие душевные беседы за полночь и благожелательная атмосфера, совсем другая жизнь. По мере возможности она уезжала с детьми к родителям – для короткого отдыха и сосредоточенности. За десять лет замужества Елена Андреевна родила четырех детей: Елену, Александра, Веру и Леонида. Александр умер на втором году жизни.
В письме из села Каменское в Малороссии от 14 октября 1838 года сосланному декабристу Сергеем Ивановичем Кривцову, с которым мать Блаватской познакомилась и подружилась на водах в Кисловодске, она откровенно описывает бытовые тяготы и духовные испытания походной жизни с мужем. Брата Сергея Ивановича, Николая Ивановича, близкого приятеля Пушкина, она знала еще раньше как хорошего знакомого своего отца:
«Я живу в скверной, сырой, холодной избе, из моих окон я вижу – на восток сельскую церковь, к западу – кладбище на пригорке, уставленное крестами, готовыми упасть; к югу – большую конюшню, к северу – другое строение, принадлежащее батарее, дальше – степь, пески и болота. Прибавьте к этому вечно пасмурное небо, в доме – угрюмое молчание, едва нарушаемое лепетом Верочки, непрерывный свист ветра, а вечером – вой собак и карканье ворон, – и вы будете знать мое жилище, как если бы вы сами жили в нем. С тех пор, как Лоло живет с гувернанткой в другой избе по соседству с моей, я почти не покидаю моего кабинета, – крошечной комнаты, которая напоминает мне ваш каземат 1826 г., потому что в ней не более трех шагов в длину и двух шагов в ширину; но я довольствуюсь малым, и так как в ней могут помещаться моя библиотека, стул и стол, то я чувствую себя в ней очень уютно». В том же письме Елена Андреевна предоставляет адресату свой достаточно точный психологический портрет: «Основная черта моего характера – неустанная деятельность ума и чувства, вечно подвижные, непокорные, беспокойные, они беспрестанно требуют пищи и только напрягая все мои духовные силы, в принудительном занятии я могу укрощать их и подчас даже усыплять. Это нравственный опиум, и я пользуюсь им, как предохранительным средством против моей экзальтации, которая, на ваш взгляд, есть не что иное, как горячка».
Не была ли Елена Петровна живым воплощением того, чего жаждала экзальтированная душа ее матери, Елены Андреевны Ган? Не явилась ли ее жизнь продолжением материнских поисков неразделенной любви, основанной на глубоком сродстве душ? Не представляют ли ее поступки, ее поведение, ее решительный разрыв с национальной духовной традицией результат нового женского сознания, сформировавшегося в 30-е годы XIX века? Думаю, все это именно так. Живость, веселость, оригинальность – основные доминирующие черты характера Елены Андреевны Ган.
И еще одна особенность личности была ей присуща. Вот что писала об этой странности в поведении писательницы ее сестра Надежда Андреевна: «Когда она подмечала смешные стороны иных людей, она любила этих людей дурачить и мистифицировать, – это ее забавляло, и она это делала так остроумно, так комично и вместе с тем так серьезно, что в самом деле выходило необыкновенно забавно для особ, посвященных в шутку, а не понимавшие ее и не подозревали мистификации».
Итак, сомнительный дар дурачить людей Елена Петровна Блаватская получила в наследство от своей матери. Другое дело, что этот дар она обратила на психологическую обработку практически всех, кто ее окружал в зрелые годы жизни. Ее прегрешения требовали покаяния. Но вот на подобное очищение совести Блаватская пойти не могла и не хотела. Единственное, что ее спасало от душевных терзаний, это нравственная необходимость распространять ложь во спасение, создавать новые иллюзии для человечества, большая часть которого все еще обладает, как она была убеждена, инфантильным сознанием, детской доверчивостью и верит всему тому, что им внушают более сообразительные и требующие себе беспрекословного повиновения люди.
За девять лет до смерти Блаватская цинично иронизировала по поводу своих последователей. Ей был присущ черный юмор: «О милые мои ослики! Когда я умру и вся философия и чудеса прекратятся, тогда они поумнеют. Ведь без меня – какая философия и откуда?»
Может быть, с «осликами» Блаватской после ее кончины так и произошло, но некоторые из них превратились в ослов-долгожителей, к тому же подросли новые ослики, и все продолжает и до сих пор идти по-старому, по испокон веку заведенному порядку в рутинном мире людей.
Род человеческий с его варварскими законами выживания внушал ей ужас. Вот почему по отношению к нему она была злоязычна и в мрачных красках описывала его будущее. Но, как многие пророки и пророчицы, Елена Петровна при всей своей способности прозревать историческую даль часто не могла разглядеть и понять того, что творилось у нее под носом. Сестру Веру и тетю Надежду она сделала соучастницами своей самой крупной мистификации – предстать перед человечеством в образе пророчицы и ясновидящей.
Человек в мире есть не что иное, как игралище капризной судьбы и ветреного случая. Блаватская мне на это возразила бы с неопровержимой логикой, что судьба – это направляющая нить кармы, случай – божественный загонщик, а кто охотник – не дано знать никому из живущих на земле людей.
Блаватская всегда, до последних дней своих, обращалась к личности матери. Память о матери стала чем-то вроде священного ковчега, в котором она хранила самые возвышенные чувства. Дочь подхватила основную тональность матери – проповедь новой жизни для женщины света. Женщины, которая стоит выше грубой чувственности и ищет утешения в служении высоким идеалам. Вопросы, волновавшие ее мать, Блаватская перенесла на почву мистицизма и оккультизма. Плодом этого явилось создание Теософического общества. Ей необходимы были другие религиозные и философские обоснования, другие логические доводы для объяснения таких понятий, как духовный брак, основанный не на плотском влечении мужчины и женщины друг к другу, а на истинном вечном сродстве их душ. Недаром спустя много лет, находясь в Соединенных Штатах Америки, Елена Петровна обратила пристальное внимание на религиозное движение мормонов, которые пытались достичь идеала семейной жизни. С точки зрения православного сознания, они впадали в грех гордыни и прелюбодеяния, а семейный очаг превращали в своего рода сатанинскую скудель. Блаватская между тем совершенно иначе оценивала их деятельность.
В столицу Елена Андреевна Ган попала весной 1836 года, там был временно расквартирован полк ее мужа, и прожила в ней по май 1837 года. Она приехала туда из Курска с годовалой Верой. Этот город стал для матери Блаватской местом вдохновения и триумфа. В те достопамятные времена не Москва, а Санкт-Петербург был законодателем литературной моды.
В Санкт-Петербурге Ган завязала нужные литературные знакомства. На художественной выставке произошла ее случайная встреча с Пушкиным, о которой она тотчас же написала родным: «Я вдруг наткнулась на человека, который показался мне очень знакомым… Иван Алексеевич (брат мужа Елены Андреевны. – А. С.) в то же время сжал мне руку, указывая на него глазами, и при втором взгляде сердце мое забилось… Я узнала – Пушкина! Я воображала его черным брюнетом, а его волосы не темнее моих, длинные, взъерошенные… Маленький ростом, с заросшим лицом, он был не красив, если бы не глаза. Глаза – блестят, как угли, и в беспрерывном движении. Я, разумеется, забыла картины, чтобы смотреть на него. И он, кажется, это заметил: несколько раз, взглядывая на меня, улыбался… Видно, на лице моем изображались мои восторженные чувства».
Аристократическое происхождение позволяло ей без особых затруднений быть принятой в высшем свете. Перед ней распахнулись все двери. Следует также иметь в виду, что Елена Андреевна приходилась двоюродной сестрой поэтессе Евдокии Ростопчиной и мемуаристке Екатерине Сушковой, в замужестве Хвостовой, возлюбленной Лермонтова. Родственниками Елены Андреевны по матери были известные поэты того времени Иван Михайлович Долгоруков и Тютчев. Ведь родная сестра бабушки Блаватской из рода Долгоруковых Анастасия Павловна, родившаяся в 1789 году и скончавшаяся в 1828 году, была замужем за Сушковым, дядей графини Ростопчиной и братом Николая Васильевича Сушкова. Женой Николая Васильевича была Дарья Ивановна, сестра Ф. И. Тютчева. Родственные связи семьи Фадеевых, как видим, были достаточно разветленными. Помимо прошлого, связанного с русской историей, у этой семьи было и вполне достойное настоящее, связанное с русской литературой. А ее будущее, как известно, наилучшим образом заявило о себе как в русской истории (деятельность С. Ю. Витте), так и в мировой культуре (сочинения Е. П. Блаватской).
В доме Екатерины Сушковой Елена Фадеева шапочно общалась с Лермонтовым и о своем впечатлении от этих встреч написала родным: «Его я знаю лично… Умная голова! Поэт, красноречив». Вообще-то внешне Лермонтов не произвел на нее большого впечатления: «…Он, по крайней мере, правду сказал, что похож на сатану. Точь-в-точь маленький чертенок с двумя углями вместо глаз, черный, курчавый и вдобавок в красной куртке».
В общественной и культурной жизни столицы весна представлялась совсем не такой, какой являлась в природе. Она олицетворяла не пробуждение и расцвет, а скорее замирание жизни, спад и всеобщую усталость. Зима самодовольно выставляла напоказ все лучшее и ценное, что было в Петербурге. Люди круга Елены Андреевны Ган ходили в театры, в оперу и на балет, посещали выставки картин, концерты и балы. Большое распространение в то время получили званые обеды и ужины.
На весну оставалось тоже кое-что, однако не в таком, как зимой, изобилии. Елена Андреевна в самозабвенном восторге вспрыгнула на эту праздничную карусель. Потрясающий мир красоты, изящества и свободы раскрылся перед ней. Что она больше всего любила – это ночные посиделки в частных домах с восьми часов вечера до четырех утра. Мужчины играли в вист, дамы – в бостон или преферанс. Одни говорили о политике и бизнесе, другие сплетничали, обсуждали последние театральные новости, обменивались впечатлениями о прочитанных романах и делились сведениями о том, что нынче в моде, а что нет. За сизым папиросным и сигарным дымом все они едва различали друг друга. В этих гостиных между тем царила чинная и благопристойная атмосфера. Хозяева и гости дорожили добрым именем. В то же время у каждого из завсегдатаев этих гостиных был свой предмет обожания. Любое движение молодой симпатичной женщины толковалось часто произвольно, в пользу того или иного воздыхателя. На этих встречах приходилось вести себя благоразумно и осторожно. Никто не смог бы упрекнуть Елену Андреевну в кокетстве. В то же время, как она признавалась в письме сестре Екатерине, «нет души в целом Питере, которая бы была мне близка».