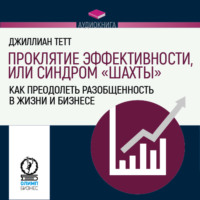Проклятие эффективности, или Синдром «шахты». Как преодолеть разобщенность в жизни и бизнесе
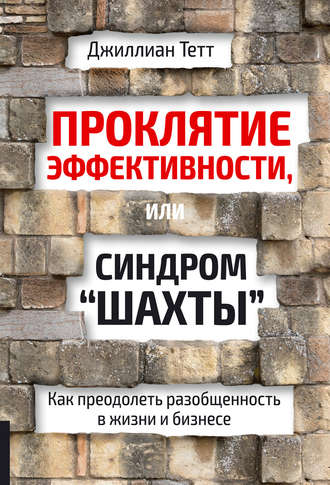
Полная версия
Проклятие эффективности, или Синдром «шахты». Как преодолеть разобщенность в жизни и бизнесе
Жанр: учебная и научная литературанаучно-популярная литератураэкономиказарубежная образовательная литературагуманитарные и общественные наукиуправление экономикоймировая экономикаэкономическая эффективностьмежрыночные связистратегия развитияструктура рынкаделовые связизнания и навыки
Язык: Русский
Год издания: 2015
Добавлена:
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Конец ознакомительного фрагмента
Купить и скачать всю книгу