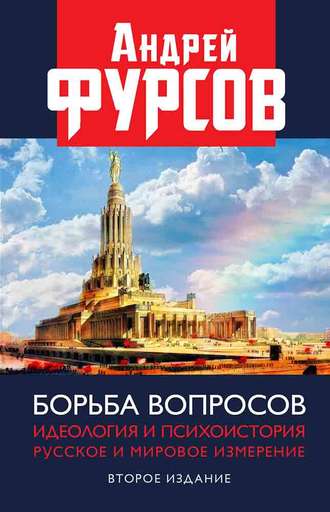
Полная версия
Борьба вопросов. Идеология и психоистория. Русское и мировое измерения
Допущение в политическую жизнь рабочих, а значит и возможность как самой политической борьбы, так и борьбы политическими (т. е. легальными) средствами за экономические блага, подвели черту под тем, что А. Бригз назвал «эпохой улучшения», 1783–1867 гг.
В 1867 г. «пролы» вышли на политическую арену, и это вызвало растерянность: «Я раззудил плечо, трибуны замерли». Ах, как символично, как вовремя подоспел Маркс со своим «Капиталом». Бывают же совпадения в истории (впрочем – совпадения, если «забыть», что Маркс «поджимал» себя со сроками и в связи с борьбой за лидерство в I Интернационале). Английский 1867 год «перевешивает» все другие альтернативные даты конца эпохи. События 1868–1878 гг. (1870, 1871, 1873, 1875, 1876, 1878) при всей их важности были лишь шлейфом ушедшей эпохи, реакцией на то, что уже произошло. Мирный, без революции, без шума (чисто английская манера не шуметь; так, уже Тэрнер был во многом первым импрессионистом, но предпочитал находиться в русле традиции, хотя бы формально, а не рвать с ней на французский манер, в результате которого традиция сохраняется – парадоксальным, революционным способом – пожалуй, крепче, чем при эволюционном переходе) «выход в политический свет» части английского рабочего класса принципиально менял общесоциальную европейскую сцену с вытекающими из этого экономическими и политическими последствиями для мира, Европы в целом и отдельных стран. К этому «островному» событию 1867 г. на Дальнем Западе Евразии, напомню, надо добавить, во-первых, «островное» событие на Дальнем Востоке – в Японии («реставрация» Мэйдзи) и, во-вторых, международную выставку в Париже 1867 г.
Дело, конечно, не в самой выставке, а в тенденции, которая стала очевидной, была замечена именно во время ее проведения. Если психологический надлом в политической британской гегемонии в мире произошел в 1871 г., то серьезные сомнения по поводу экономического, промышленного господства Великобритании появились во время проведения именно парижской выставки 1867 г. За викторианским самодовольством стала просматриваться экономическая слабость «мастерской мира»[44]. Ну и наконец, last but not least, по крайней мере, с символической точки зрения, появление в 1867 г. «Капитала» Маркса. Другой вопрос, – в какой степени «Капитал» отражал и осмысливал значимые сдвиги «длинных пятидесятых». Но выход «Капитала» именно тогда, когда мир стал капиталистическим «по позитиву» (в 1873 г. он ощутит это и «по негативу») и когда «герои Маркса» вышли на политическую арену, хотя и не тем манером, которым хотел бы герр доктор и который он приветствовал бы (хотя «марксистский манер» 1871 г. самого Маркса не только порадовал, но и напугал, и огорчил – если и не «до невозможности», то сильно. Ну что же, «the world is not always as we want it to he. It is as it is»), очень символичен во многих отношениях. В том числе и в том, что «Сова Минервы вылетает в полночь». Маркс пытался рассказать об эпохе, которая уже закончилась и ускользала от этого Карабаса Барабаса (для буржуазии, а, впрочем, может, и для пролетариата тоже?) подобно трем куклам – героям «Золотого ключика», ускользавшим от сказочного Карабаса Барабаса (как жаль, что Энгельс не похож на Дуремара, вот была бы парочка! Но это к слову).
4. Макроэкономические циклы и структуры повседневности: на переломеМы начали анализировать пограничность, переломность эпох, разделивших сознательную жизнь, формирование личности и творчество Маркса на две части, с капитализма по линии формации («во-первых»), затем перешли на уровень общества в целом, «включив» различие между «промежуточными», (революционными) и устойчивыми («ставшими») эпохами и стадиями («во-вторых»); затем поднялись на максимально общий и абстрактный уровень исторического субъекта и цивилизации («в-третьих»), после чего двинулись вниз, к более конкретным вещам – мировая капиталистическая экономика, классы, политика («в-четвертых»). Ну а закончить я хочу еще более конкретным, характеризующим один из аспектов, хотя и очень важный, функционирования мировой капиталистической экономики. Речь, в-пятых, пойдет о «кондратьевских циклах», поскольку по рубежу 1840-1850-х годов проходит граница между первым (1780-е – 1851) и вторым (1844–1896) «кондратьевскими циклами»; граница между двумя двадцатилетиями в формировании и творчестве Маркса прошла в аккурат по границе между двумя «кондратьевскими циклами», совпала с ней.
Экономическая наука знает несколько различных моделей циклов: Дж. Китчина (2–3 года), К. Жюглара (6-10 лет), С. Кузнеца (15–20 лет), Н. Кондратьева (45–60 лет), вековые тренды (тенденции, «логические циклы»), Р. Камерона (150–200 лет).
Среди них особое место занимают кондратьевские циклы по причинам как экономического, так и неэкономического характера: их среднесрочность позволяет – при желании и умении – активно использовать их историкам, социологам, политологам. 45–60 лет – это как раз такой срок, когда суть исторических событий проясняется, а собственно экономических объяснений уже не хватает, не достаточно для понимания даже экономических явлений.
Идеи «больших циклов экономической конъюнктуры» были сформулированы Н.Д. Кондратьевым в 1920-е годы. Экономист зафиксировал наличие крупных отрезков экономической истории (45–60 лет), которые делятся примерно на две равные части. Во время первой из них, грубо говоря, экономика развивается по восходящей («повышательная волна»), во время второй – по нисходящей («понижательная волна»).
Сам Кондратьев вел отсчет циклам (и составляющим их «волнам») с начала 1780-х годов. Первый цикл длился до 1844/1851 гг. («повышательная волна» – 1780–1810/1817; «понижательная волна» – 1810/1817-1844/1851); второй цикл: 1844/1851-1890/1896 (1844/1851-1870/1875); третий цикл:
1890/1896-?[45]. Позднее исследователи «закрыли» третий цикл 1945/1950 гг. и этим же отрезком открыли четвертый (повышательная волна – до 1967/1973); мы, таким образом, находимся в «хвосте» четвертого цикла; «цикл бежал, хвостиком вильнул» – и нет ни СССР, ни коммунизма, т. е. Второго мира, «посыпался» Третий мир, да и Первому миру не сладко.
В ходе развития идей Кондратьева на Западе характеристики повышательной (подъем экономики) и понижательной (спад экономики) волн (фаз) цикла уточнялись (хотя те исследователи, которые приняли идею, по-разному объясняли причины и природу «волн» – ср. И. Шумпетера, У. Ростоу, Э. Манделя, И. Валлерстайна). Так, выяснилось, что во время повышательной волны подъем происходит не во всех секторах экономики, а во время волны понижательной не везде происходит спад, поэтому некоторые предпочитают вместо терминов «повышательная» и «понижательная» волны использовать более нейтральные – «A-фаза» и «Б-фаза». Выяснилось также, что «Б-фаза» имеет не меньшее значение для мировой экономики, чем «A-фаза», представляя собой нечто вроде выдоха, выброса углекислого газа. В целом «А-фаза» – это момент, когда в мировой экономике много монопольных секторов, следовательно, норма накопления выше, отсюда – экономический рост, подъем. «Б-фаза» – это момент «насыщения» рынков избыточной конкуренцией, следовательно, норма накопления ниже, экономика «сжимается», отсюда – экономический спад[46].
На рубеже 1840-1850-х годов, когда в жизни Маркса не просто завершился один период и начался другой, а произошел крутой поворот, связанный с переездом в Англию, крутой поворот произошел и в «жизни» мировой экономики – не просто от одного кондратьевского цикла к другому, а от понижательной волны, Б-фазы, первого цикла, к повышательной волне, A-фазе, второго, от спада к подъему. Можно сказать, что в Лондон в 1849 г. герра доктора вынесли кондратьевская повышательная волна и революция 1848 г., и он оказался на острове, да не один, а с Пятницей-Фредом.
Переход от спада к подъему, от цикла к циклу и от фазы к фазе был стремительным. Экономический бум 1850-х, а точнее 1850–1860 – х – первый капиталистический бум, в основе которого лежали открытие золота, рост банков в Великобритании, Франции, Германии, США привел к индустриализации мировой экономики и беспрецедентному накоплению капитала в мировом масштабе[47].
В определенном смысле «длинные пятидесятые» XIX в. напоминают «славное тридцатилетие» (1945–1975 гг.) XX в. – оба периода являются «А-фазами», оба отмечены беспрецедентной «глобализацией». Правда, «длинные пятидесятые» начались революцией, а «славное тридцатилетие» окончилось революцией (1968), да такой, которая по-своему закрыла эпоху, начавшуюся не только 1945 г., но и 1848 г.
По сути, «длинные пятидесятые» были капиталистическим «большим скачком», завершившимся «Капиталом» Маркса. Понимал ли эту скачковость периода Маркс? Трудно сказать. Скорее, нет – и потому, что трудно понять время, в котором живешь; и потому, что Маркс был занят подготовкой к «Капиталу», а потом – «Капитала», анализируя в основном работы экономистов, писавших до 1850 г.; и потому, что в реальности 1850-1860-х годов он искал и видел теоретическим взглядом то, что хотел найти и увидеть; и наконец, потому, что целый букет событий, политический взрыв своей пылевой завесой должен был осложнить восприятие этой реальности. А «взрыв» был действительно мощным. Мы уже говорили о политическом «миргазме» «длинных пятидесятых». Сейчас имеет смысл вернуться к этому вопросу, поскольку он тесно связан с проблемой кондратьевских циклов, являясь, под определенным углом зрения, ее аспектом.
Н.Д. Кондратьев подчеркивал, что «периоды повышательных волн больших циклов, как правило, значительно богаче крупными социальными потрясениями и переворотами в жизни общества (революции, войны), чем периоды понижательных волн»[48]. Кондратьев не стал давать (или не смог дать) теоретического объяснения этого явления, или, как он сам выразился, устанавливать причинную зависимость, но лишь зафиксировал некую эмпирическую закономерность или, опять же, по его выражению, «вторую эмпирическую правильность» (первая – изменение техники, обмена, финансов накануне повышательной волны; третья – депрессия сельского хозяйства во время понижательной волны; четвертая – наличие средних циклов в больших циклах)[49].
Иллюстрация «второй эмпирической правильности» Кондратьевым очень впечатляет, а нам показывает, в каком международно-политически насыщенном мире жил зрелый Маркс, «изготавливая», как любили говорить в КГБ, свой opus magnum. Итак, политические события повышательной волны второго большого цикла: 1) февральская революция во Франции 1848 г.; 2) революционное движение в Италии и вмешательство иностранных сил – 1848–1849 гг.; 3) революционное движение в Германии – 1848–1849 гг.; 4) революционное движение в Австрии и Венгрии, подавление его в последней иностранным вмешательством – 1848–1849 гг.; 5) бонапартистский переворот во Франции 1851 г.; 6) Крымская война 1853–1856 гг.; 7) образование Румынии -1859 г.; 8) война Австрии с Италией и Францией – 1858–1859 гг.; 9) национальное движение в Италии за ее объединение – 1859–1870 гг.; 10) национальное движение в Германии за ее объединение -1862-1870 гг.; 11) гражданская война в Соединенных Штатах Северной Америки – 1861–1865 гг.; 12) восстание Герцеговины – 1861 г.; 13) война Пруссии и Австрии против Дании – 1864 г.; 14) война Австрии и южно-германских государств с Пруссией и Италией – 1866 г.; 15) освобождение Сербии – 1867 г.; 16) франко-прусская война 1870–1871 гг.; 17) революция в Париже, Парижская коммуна и ее подавление – 1870–1871 гг.; 18) образование Германской империи -1870-1871 гг.[50].
А вот периоды понижательных волн, будь то первого цикла или второго, намного беднее событиями. Во втором таких событий четыре: восстание в Герцеговине против Турции 1875 г.; русско-турецкая война 1877–1878 гг.; начало раздела Африки; образование единой Болгарии в 1885 г. В первом – пять: революционные движения в Испании 1812–1820 гг. и в Италии 1820–1823 гг.; война с Турцией 1828–1829 гг.; польская революция во Франции 1830 г. и ее рецидивы в Париже и Лионе в 1830–1834 гг. и движение чартистов в Англии в 1838–1848 гг. И все. Получается, что две понижательных волны в два раза менее насыщены событиями, чем одна повышательная волна, будь то второго цикла (18 событий по Кондратьеву) или первого цикла (тоже 18 событий). Таким образом, «длинные пятидесятые», «капиталисте» годы Маркса – это не только экономический, но и международно-политический бум. Конец 1840-х – это переход от «спячки» в международных делах к буму.
Опять перелом и водораздел.
Переломный характер эпохи формирования идей Маркса не ограничивается и «кондратьевским измерением». Есть еще одно, которым я хочу закончить анализ эпохи Маркса. Речь – о самом конкретном и приземленном: о быте, повседневной жизни, структурах повседневности. И с этой точки зрения 1830-1840-е или даже просто 1840-е годы оказываются хронозоной, разделяющей целые эпохи.
Д. Норт однажды заметил, что если бы древний грек оказался «перенесенным» в 1750 г., то в целом, за исключением огнестрельного оружия и нескольких «мелочей», мир показался бы ему знакомым: аграрный ландшафт, ручной труд, спокойный ритм жизни, лошадь – как основное средство передвижения по суше и т. д.[51]. Если вспомнить, что Западная Европа лишь в 1720-1730-е годы восстановила уровень продуктивности сельского хозяйства, достигнутый в XII–XIII вв., а этот последний, в свою очередь, лишь повторял достижения I–II вв. н. э., утраченные на целое тысячелетие, то мнение Норта покажется еще более обоснованным.
А вот если бы древний грек появился в Европе в 1850 г., продолжает свою мысль Норт, то он столкнулся бы с «ирреальным», незнакомым и чужим ему миром. Промышленная революция, считает экономист, заложила фундамент для радикального изменения производства, производственного ландшафта и быта между 1750 и 1830 гг. Сами изменения произошли в 1840-1850-е годы, «материализовались» в росте населения и городов, утрате сельским хозяйством и ручным трудом доминирующих позиций, в превращении постоянных технических изменений в норму, наконец, в достижении Западом, точнее, значительной и все более расширяющейся частью его населения, такого уровня жизни, материального («предметно-вещественного») благосостояния, которое в других обществах было недоступно даже самым богатым[52].
Иными словами, бытовой компонент промышленной революции, запоздавший, как это всегда бывает с бытовыми компонентами, на несколько десятилетий по сравнению с производственным, реализовался в середине XIX в. Причем внешне это произошло стремительно, в течение одного десятилетия или даже меньше, произошло прежде всего в Англии, а затем, тоже довольно быстро, на «континенте».
Еще в 1842 г., как это видно из подшивок «Illustrated London news» – журнала тех времен, Англия была сельской страной, страной сельского быта. Номера журнала конца 1840-х, показывают нам совсем другую страну – Англию машин и железных дорог. Последние, и вообще революция в транспорте и коммуникациях, сыграли особенно большую роль. Если в начале 1840-х годов Англия была страной, части (графства) которой были плохо и трудно связаны друг с другом, то в 1848 г. в ней было 2 тысячи миль общественного электрического телеграфа, отделения которого были открыты круглосуточно. «Penny Post», организованная Р. Хиллом в 1840 г., привела к тому, что объем доставки писем в 1843 г. составил 4 млн. (1840 г. – 1,5 млн.). Переписка из занятия состоятельных людей превратилась в массовое достояние, а страна оказалась намного лучше и плотнее связана внутренне. Революционные изменения в средствах коммуникации (в широком смысле слова) видны и по прессе: в 1815 г. «Times» выходила тиражом в 5 тыс. экз., в 1850 – 70 тыс.[53]. Неудивительно, что хотя еще в 1840 г. для Англии было характерно провинциальное мировоззрение, к 1850 г. мировоззрение стало национальным[54], и это совпало с обретением Британией мировой роли. Вообще нужно сказать, что в современном мире национальный и мировой уровни тесно связаны, противостоя уровню локальному и (макро)региональному. Великобритания рубежа 1840-1850-х годов подтверждает эту связь, корреляцию. Да и другие страны тоже.
Итак, транспорт, телеграф, современная почта, технические новинки в быту – вот что разделяет и отличает друг от друга эпохи «молодого Маркса» (не путать с «ранним Марксом» – это другое) и «зрелого Маркса». Приехав в Лондон в августе 1849 г., Маркс попал в Англию в канун новой эпохи – викторианской, с корабля – на бал Истории. Как заметил Дж. Доде, строго говоря, 1840-е годы не были еще «викторианской Англией», они представляли собой смесь анахронизмов и нового; это было довольно трудное время, которое так и называли: «голодные сороковые», «тревожные сороковые»[55] (несмотря на все тревоги, однако, Англия не скатилась в революцию, а вот Франция, демонстрировавшая в 1840–1847 гг. исключительную политическую стабильность[56], «рванула» в начале 1848 г. своей «февральской» революцией).
1850-е, резко отличаясь от 1840-х в лучшую сторону, пришли как «delayed gratitude» и получили название «сказочных», «начала Золотого века». Воротами в «Золотой век» и одновременно символом его наступления, разделившим не только десятилетия, но и целые эпохи, стала Всемирная выставка 1851 г. в Лондоне, точнее открытие 1 мая 1851 г. Chrystal Palace королевой Викторией. По сути это и было началом «викторианской эпохи», Лондон превратился если не в центр мироздания, то в центр мира, а индивидуальное и общественное благосостояние стало быстро расти, и даже сторонник республиканцев в 1848 г. Тэкерей стал петь оды существующему строю[57]. Уже к 1852 г. в Банке Англии было так много денег, как никогда (США и Австралия благодаря вновь открытому золоту резко увеличили закупки английских товаров)[58]. И это еще более толкало вперед и бытовые изменения, и благосостояние. Но Маркс словно не замечал этого, он ждал другого, а потому и перереагировал на кризис 1857 г., придав ему такое значение и такие масштабы, которых тот не имел, и, напротив, недооценил кризис 1873 г.
Подводя итоги, можно сказать следующее. Теория Маркса, «марксизм» возникли на водоразделе, переломе сразу нескольких эпох, перехода: от предкапиталистического – к капиталистическому, от традиционного – к современному (как в хозяйстве, так и в логике), от революционной эпохи – к эпохе стабильности; от периода экономического спада – к периоду экономического подъема; наконец, от локально-региональной Европы – к мировому Западу; от истории, в лучшем случае, макрорегиональной – к истории всемирной. С этой точки зрения теория Маркса в рамках каждой дихотомии принадлежит отчасти обоим ее элементам, находится по обе стороны перелома, водораздела, кризиса.
В этом смысле социально-историческая теория Маркса – кризисная, она не принадлежит полностью ни одной эпохе по отдельности, но – перелому, разрыву-соединению между ними, вывихнутому времени, тому самому, которое is out of joint.
Хорошо это или плохо? Не хорошо и ни плохо – это так есть, и в этом, как и во всем, свои плюсы и минусы: every acquisition is a loss, and every loss is an acquisition. Но как все же в таких обстоятельствах характеризовать теорию Маркса? Что это? Локальная европейская теория, отразившая выход европейского общества за европейские рамки и наступление мировой капиталистической эпохи? Или мировая теория капиталистического общества, в которой преломились проблемы локального опыта западноевропейского развития? Теория революционной эпохи, «опрокинутая» на послереволюционный мир («революционный марксизм»), или теория стабильного капиталистического развития, лишь развернутая под революционным углом («научный марксизм»)? Однако прежде чем отвечать на эти и подобные вопросы, надо взглянуть на марксизм как на идеологию, ведь теория Маркса при всей ее научности была элементом некоего идеологического дискурса. Ее характеристика невозможна без понимания того, чем был этот идеологический дискурс, чем отличался от других идеологий, тем более что все современные идеологии порождены и пропитаны эпохой, о которой мы только что закончили говорить.
5. Феномен идеологии и европейская реальность революционной (1789–1848) эпохиСовременность (Modernity) была насквозь идеологизированной эпохой. Она такой уродилась. Идеология – «фирменный знак», изоморфа Современности. До такой степени, что мы себе не можем представить без- и внеидеологического сознания и бытия. До такой степени, что любую систему идей, любую «идейно-политическую форму», будь то светская или религиозная, отождествляем с идеологией, квалифицируем как ту или иную идеологию.
Поэтому в один ряд попадают «либеральная идеология» и «идеология национализма», «христианская идеология» и «идеология ислама», «идеология империалистического разбоя» и «шовинистическая идеология», «марксистско-ленинская идеология» и «идеология великодержавности», «идеология национально-освободительного движения» и «идеология апартеида» и т. д.
Ясно, однако, что во всех этих случаях термин «идеология» употребляется в различных, порой несопоставимых смыслах; в этот термин вкладывается принципиально различное содержание. В результате термин «идеология» становится столь широким и всеобъемлющим, что лишается не только специфически научного, но и практического смысла: под «исламской идеологией», «шовинистической идеологией» и «либеральной идеологией» скрываются столь разные, качественно несопоставимые сущности, что употребление по отношению к ним одного и того же термина «идеология» превращает последний в поверхностную метафору. Все оказывается идеологией: бытовые представления – «идеология», и светские идеи – «идеология», и религиозные представления – «идеология». Но в таком случае, зачем термин «идеология» – есть «здравый смысл», есть «религия», есть… Нет термина для светских идей, выходящих за узкие рамки здравого смысла и тесно связанных с некими политическими целями. Последние не только предполагают наличие политики, отсутствующей как явление в докапиталистических обществах, и принятие обществом идеи развития как поступательного, прогрессивного развития, что опять-таки характерно только для капитализма.
Действительно, в докапиталистические эпохи и в докапиталистических обществах ни о какой идеологии не слышали, в ней не было нужды: и угнетатели и угнетенные артикулировали свои проблемы на религиозном языке в разных его вариантах («господская религия – народная религия», «большая традиция – малая традиция»). «Цель» угнетенных была естественной: как правило – возвращение в прошлое, в «Золотой век», когда господа уважали «моральную экономику» крестьянина. Несколько сложнее обстояло дело в христианском средневековом социуме с его футуристичным катастрофизмом, но и там цели социальных движений формировались на языке религии, обходились ею, поворачивая ее против сильных мира сего. А когда и почему возникла нужда в идеологии? Когда появилось слово «идеология»?
Французский словарь «Робер» датирует первое употребление слова «идеология» 1796 г., а слова «идеолог» – 1800 г. «Запустил» термин «идеология» граф А.Л.К. Дестют де Траси. Он разъяснил его 20 июня 1796 г. в докладе «Проект идеологии», прочитанном в Национальном институте наук и искусства, а затем в книге «Элементы идеологии» (1801). Для изобретателя термина идеология означала философскую систему, объектом которой были идеи и законы их формирования. Однако со временем, в 1820-1830-е годы, этот термин стал означать комплекс идей и ценностей, связанных не только и даже не столько с идеями, с «идеальным», а с реальным обществом, с социальными процессами. Интересно, что резко отрицательно к «идеологам», лидером которых был Дестют де Траси, отнеслись Наполеон, а позднее Маркс.
То, что некий термин, некое слово фиксируется определенной датой, не означает, что реальность, отражаемая этим термином, вообще не существовала. Но это также означает, что она возникла сравнительно недавно. И все же – «вначале было Слово».
Только терминологическая фиксация некой реальности превращает ее в социальный факт, в факт общественной жизни, творит ее как таковой. Это ученые не всегда следуют декартовскому правилу: «Определяйте значение слов». Общество, как правило, придерживается его и фиксирует новинку – иногда устами ученых мужей, иногда просто с помощью «vox populi».
Стремились ли Дестют де Траси и его коллеги «идеологи» к созданию некой единой и цельной идеологической схемы? Возможно, да. Собственно, контуры некой «единой и неделимой» протоидеологии западного («раннекапиталистического») общества как противостоящей религии проглядывали в Просвещении. В этом смысле «идеология» «идеологов» была, по-видимому, крайней точкой, последней попыткой такую идеологию создать. Не вышло. Через несколько десятилетий вместо одной идеологии возникли целых три: консерватизм, либерализм и социализм. Иными словами, Идеология западного общества капиталистической эпохи оформилась как тримодальное явление. По-видимому, было в сущности и логике капитализма, его развития в начале XIX в. нечто такое, что вызывало в качестве реакции возникновение идеологии/идеологий. Думаю, И. Валлерстайн правильно указал на это почти магическое нечто: изменение.










