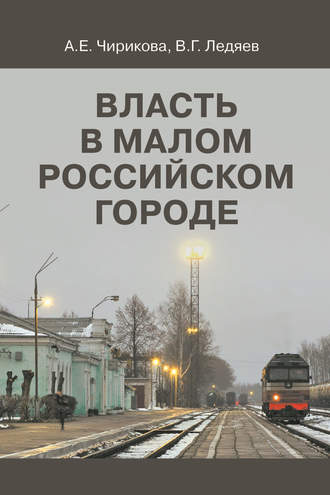
Полная версия
Власть в малом российском городе
В ряде исследовательских проектов изучение состава элит и их базовых социальных, профессиональных и статусных характеристик сопровождается обстоятельным анализом их ценностных ориентаций и идеологических предпочтений. В этом контексте выделяются исследования региональных элит, выполненные коллективом ученых Социологического института в Санкт-Петербурге под руководством Александра Дуки (Алла Быстрова, Александра Даугавет, Наталья Колесник, Денис Тев и др.) [Региональные элиты Северо-Запада России, 2001; Дука и др., 2008], которые затрагивают многие важные проблемы в изучении власти и элит, в том числе ценностные ориентации, динамику элитного корпуса представительной власти Северо-Запада, отношения бизнеса и власти, инновационный потенциал региональных элит и др. Заслуживает быть отмеченным и содержательный анализ идеологических и политических реакций региональных элит на вызовы переходного периода, проведенный Арбаханом Магомедовым на материалах исследования региональных элит Поволжья [Магомедов, 2000].
Изучение взаимоотношений между основными акторами региональной и(или) городской политики и локальных политических режимов. В данном сегменте отечественной политической регионалистики выделяются исследования Натальи Лапиной и Аллы Чириковой, в которых предложены оригинальные классификации моделей взаимоотношений между административно-политическими элитами и бизнес-элитами регионов. Для объяснения взаимоотношений между политико-административными элитами и бизнес-элитами регионов ими были использованы модели «патронажа» (административное давление власти на бизнес), «партнерства» (эффективное взаимодействие политических и экономических элит), «борьба всех против всех» и «приватизация власти» (политическая элита формируется и(или) контролируется бизнес-элитой). Для описания и объяснения взаимоотношений, сложившихся между группами региональной элиты в последнее десятилетие, была добавлена «модель торга». Кроме того, авторы обстоятельно описывают динамику, основные формы, ресурсы и методы влияния региональных акторов на внутриэлитные взаимодействия, на отношения с акторами федерального уровня. Достоинством их работ является глубокий анализ неформальных практик, сложившихся во внутриэлитных взаимоотношениях, что позволяет получить реальную картину власти в регионах, часто существенно отличающуюся от той, которая представлена в официальном дискурсе и нормативных документах [Лапина, Чирикова, 1999; 2000; 2002; Лапина, 1998; Чирикова, 2007а]. В последующих работах А. Чириковой тема неформальных практик становится ключевой и получает дальнейшее развитие [Чирикова, 2010; 2012; 2014; 2015].
Существенный вклад в понимание взаимоотношений между основными акторами в регионах также внесли Андрей Дахин [Дахин, 2002; 2003; 2009], Наталья Зубаревич [Зубаревич, 2002; 2003; 2005], Алексей Зудин [Зудин, 2005], Антон Олейник [Олейник, 2010], Денис Лев [Лев, 2008; 2009], Екатерина Копаева [Копаева, 2013] и другие исследователи.
В этом же направлении плодотворно работают исследовательские группы, возглавляемые Владимиром Лельманом [Россия регионов, 2000; Лельман и др., 2002; 2008; Лельман, Рыженков, 2010]; при этом в фокусе внимания оказываются институциональный дизайн и процессуальные характеристики городских и региональных режимов. Проекты опираются на солидный теоретический фундамент и модели, синтезирующие международный опыт изучения городских режимов и особенности российского социального, политического и культурного контекстов. Эмпирические исследования проводились на уровне и города, и региона; первые исследования затрагивали период 1990-х годов, в более поздних исследованиях были изучены текущее состояние и тенденции развития городских режимов, что позволило сделать интересные сравнения локальных политических практик на разных этапах развития политической системы российского общества. К изучению режимов в российских городах и регионах обращались и другие исследователи [Борисов, 1999; Кузьмин, Мелвин, Нечаев, 2002; Лев, 2006]. Следует отметить, что их концепции политического режима отличались от зарубежных аналогов [Луровский, 2009; 2013а]. В силу специфического характера российского общества многие авторы предпочитают использовать «универсальное» определение политического режима, не связывающее его с четко очерченным набором конкретных характеристик, что, по их мнению, расширяет возможности классификации режимов. Обычно под режимом понимается совокупность акторов политического процесса, институтов политической власти, ресурсов и стратегий борьбы за достижение и(или) удержание власти [Россия регионов, 2000, с. 20]. Подразумевается, что режим есть в каждом регионе и он может изменяться. В качестве важнейшего основания классификации режимов обычно рассматриваются степень концентрации власти в регионе (моноцентрические и полицентрические режимы), характер взаимоотношений между основными акторами («авторитарная ситуация», «гибридный режим», «демократическая ситуация») [Там же, с. 18–60, 331–375], уровень «полиархичности» режимов [Кузьмин, Мелвин, Нечаев, 2002, с. 144–146], или такие параметры, как (1) происхождение правящей группы; (2) количество и субординация центров (полюсов) политического влияния; (3) состояние гражданского общества как инфраструктуры регионального политического процесса; (4) статус региона вовне [Борисов, 1998, с. 100–102].
Данный подход представляется вполне обоснованным и продуктивным для анализа политических процессов в России. В отличие от США и Западной Европы, где демократическая практика имеет длительные традиции, в России региональные политические процессы, как и политические процессы на федеральном уровне, имеют сильную авторитарную составляющую; поэтому сделанный авторами акцент на показателях уровня демократичности политической практики в регионах, бесспорно, оправдан и отражает наиболее важные исследовательские преференции, задаваемые реальной ситуацией.
Взаимоотношения локальных элит с элитами федерального уровня и специфика российского федерализма. В рамках данного направления изучения властных отношений следует отметить исследования Ростислава Туровского [Туровский, 2005; 2006; 20136], которые позволили выявить специфику российской модели взаимоотношений между центром и регионами, заключающуюся в их постоянном изменении, выделить и обосновать основные этапы их эволюции. В контексте анализа изменений во взаимоотношениях между центром и регионами Туровский раскрывает динамику внутриэлитных отношений, возможности и ресурсы различных акторов и перспективы развития регионального политического пространства. Эти проблемы нашли отражение и в трудах Николая Петрова, не только предложившего интересный анализ политических процессов в отдельных регионах и их взаимоотношений с федеральным центром, но и предпринявшего попытку построить рейтинги региональных политических систем по степени их демократичности [Политический альманах России 1997, 1998; Россия в избирательном цикле, 2000; Петров, 2000; Власть, бизнес, общество в регионах, 2010].
В последнее десятилетие объектом исследования политологов и социологов становятся и городские сообщества. Во многом благодаря активности пермских политологов – Олега Подвинцева, Петра Панова, Надежды Борисовой и др. – началось изучение политических процессов в малых городах [Подвинцев, 2007, с. 163–169; Панов, 2008; Борисова, 2010]. К настоящему времени в целом сформировалось проблемное поле и были получены первые результаты эмпирических исследований, посвященных характеристике социальной среды и социально-политической ситуации в малых городах [Плюснин, 2000; Плюснин, Кордонский, Скалой, 2009; Колесников, Топалов, Шипилов, 2015], проблемам взаимодействия власти и бизнеса [Чирикова, 20076; Тев, 2008], роли градообразующих предприятий в политической системе [Рябова, 2007; 2008; Рябова, Витковская, 2011], специфике политических процессов в отдельных городах [Титков, 2007; Шинковская, 2008], символическим репрезентациям городов [Назукина, Сулимов, 2008], взаимодействию органов власти регионального и муниципального уровней [Воронков, 2007] и т. д.
Отдельные аспекты властных отношений в городских сообществах изучались в рамках анализа институциональных новаций в системе местного самоуправления. Принятие нового закона о местном самоуправлении (2003) и более поздние нормативные документы заметно изменили институциональный ландшафт и характер взаимоотношений внутри локальных элит. Активное внедрение моделей управления, исключающих прямые выборы населением глав муниципалитетов, наделенных одновременно статусом глав администраций, и замена выборов назначением сити-менеджеров отразили стремление правящей элиты к бюрократической рационализации местного самоуправления, позволяющей достроить нижние этажи «вертикали власти». Эти изменения нашли отражение в работах Н. Борисовой, И. Выдрина, В. Гельмана, Е. Зюзиной, А. Романовского, Б. Слатинова, К. Сулимова и других исследователей [Борисова, Сулимов, 2014; Выдрин, 2010; Гельман, 2008; Зюзина, Романовский, 2015; Слатинов, 2012; Слатинов, Меркулова, 2015].
В 2009 г. коллективом исследователей под руководством Владимира Гельмана был выполнен пилотный проект «Власть и управление в крупных городах России», полностью посвященный властным практикам в локальных сообществах и опиравшийся на международный опыт изучения власти. Поскольку данное направление изучения городской политики в российской политической науке фактически находится лишь в стадии своего становления, исследователи резонно ограничились двумя ключевыми аспектами темы: определением основных параметров локальных режимов в крупных городах России и оценкой влияния экономических, политических и институциональных изменений 1990—2000-х годов на их функционирование [Гельман, Рыженков, 2010, с. 50]. Под локальным режимом понималась «устойчивая констелляция акторов, институтов, ресурсов и стратегий на локальном уровне, обусловливающая характер осуществления местной власти и локального политико-экономического управления, основанного на реализации политического курса на местном уровне». Базовая типология городских режимов была построена на основе стоуновской классификации и модифицирована для российского контекста: 1) режим поддержания статус-кво, основанный на распределении ресурсов, главным образом в социальной сфере; 2) режим роста и развития, предполагающий экспансию бизнеса и ускоренный рост городов; 3) прогрессивный режим, ориентированный на ограничение роста, сохранение и улучшение окружающей среды. Кроме нее в анализе использовалась типология, уже апробированная для изучения региональных режимов, в соответствии с которой режимы подразделяются на полицентрические (плюралистические) и монополистические в зависимости от наличия или отсутствия доминирующего актора. В рамках последнего, в свою очередь, различаются (1) «режим большого бизнеса» (доминирование бизнеса) и (2) «административный локальный режим» [Гельман, 2010, с. 55–59].
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Подробнее см.: [Ледяев, 2012].
2
Термин был введен в научный оборот К. Фридрихом для описания ситуаций, когда объект власти действует в соответствии с волей субъекта, предвидя его возможные реакции [Friedrich, 1937, р. 16–18].
3
Это было во многом связано с большей автономией американского города по сравнению с городами в других странах.
4
Изучение городской политики в европейских странах, разумеется, имело место и раньше, но по своей проблематике и характеру оно существенно отличалось от того, что наблюдалось в американской политической науке и социологии. В частности, в Великобритании изучение власти в городском политическом пространстве фокусировалось на публичной сфере и деятельности государственных и партийных организаций. Для британской политики, подчеркивал К. Ньютон, «вопрос “кто правит?” не является проблемой… Просто начните с избранных и назначенных людей в местных органах власти. Исследование может привести в Уайтхолл, Вестминстер, в местные партийные организации, группы давления, комитеты городского совета, к каким-то чиновникам или к их комбинации» [Newton, 1975, р. 12].
5
В данном случае мы не будем жестко разделять эти два уровня изучения власти – и потому, что на практике они тесно переплетаются, и потому, что используемые многими отечественными исследователями когнитивные модели вполне применимы (и применяются) для изучения власти на обоих уровнях.

