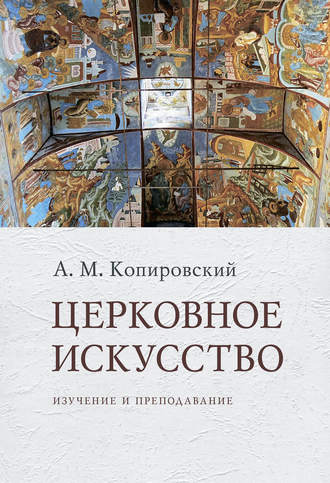
Полная версия
Церковное искусство. Изучение и преподавание
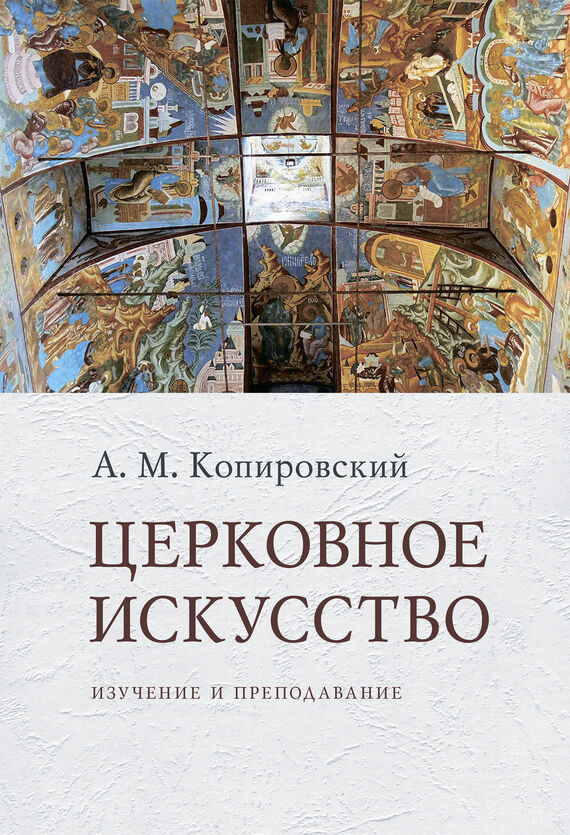
Александр Копировский
Церковное искусство: Изучение и преподавание
Рецензенты:
И. Л. БУСЕВА-ДАВЫДОВА, доктор искусствоведения, член-корреспондент Российской академии художеств
Ю. Н. ПРОТОПОПОВ, канд. педагогических наук, доцент
ПРОТОИЕРЕЙ НИКОЛАЙ ЧЕРНЫШЕВ, доцент кафедры иконописи факультета церковных художеств ПСТГУ, член Патриаршей искусствоведческой комиссии
Предисловие
Преобладающее число всех значительных художественных созданий мировой истории представляет собой культовые сооружения и культовые образы.
Ганс Зедльмайр[1]Цель этой книги – углубление восприятия и расширение возможностей преподавания церковного искусства, «большого», т. е. архитектуры храмов, их росписей и мозаик, иконописи, скульптуры, и «малого» – церковной утвари и одежды.
Вопреки широко распространенному заблуждению, церковное искусство не ограничивается вспомогательными функциями при богослужении и не противостоит искусству светскому. Оно, по определению выдающегося православного богослова ХХ в. протоиерея Сергия Булгакова, «соединяет в себе все творческие задания искусства с церковным опытом»2. Выделение его произведений из океана мирового искусства обусловлено тем, что в течение большей части советского периода истории нашей страны именно они предлагались учащимся наиболее упрощенно и искаженно, даже если признавались их высокие эстетические качества. Часто игнорировалось духовное содержание этих произведений, они рассматривались лишь как предтечи искусства светского или ставились с ним в один ряд, что приводило к произволу и в трактовке их формы.
Но церковное искусство имеет существенные особенности, о которых нужно говорить подробно. Их, хотя бы в малой части, предполагается назвать и раскрыть в этой книге. [2]
В главе I дается понятие языка церковного искусства, не ограниченное набором сакральных символов и знаков, выявляется специфика взаимодействия церковных и светских элементов в нем, которая не вписывается в привычный термин «обмирщение»; рассматриваются духовные основы, смысл и общее содержание церковного искусства.
В главе II разбираются процессы появления и развития церковного и светского направлений в науке об искусстве как в их взаимодействии, так и в противостоянии.
В главе III предложены общие методологические принципы преподавания церковного искусства, сформулированные на основе представления о «синтезе искусств» в христианском храме, и примеры реализации этих принципов – негативные и позитивные – в некоторых учебных курсах.
В главе IV аналитически описан опыт многолетнего преподавания церковного искусства в московском Свято-Филаретовском православно-христианском институте (СФИ): показано как храмовый «синтез искусств» в своих основных компонентах может стать базой для объемного (144 акад. ч.) учебного курса; подробно рассмотрены различные варианты экскурсий по храмовым комплексам. Здесь же приводятся результаты изучения курса по анкетам студентов СФИ за несколько лет.
Наконец, в Заключении в свете всех предыдущих разделов книги предлагается взглянуть на смысл, цели и перспективы изучения и преподавания церковного искусства в целом.
В Приложение вынесено интервью с автором о принципах и формах проведения творческого семинара в СФИ, когда студенты на основе всего изученного материала создают проекты «Храма XXI века», а затем представлено более 40 таких проектов, выполненных в период с 1997 по 2016 г.
Своеобразной «праосновой» этой книги были труды профессора дореволюционной Санкт-Петербургской духовной академии Н. В. Покровского (1848–1917) по церковной археологии, в которых впервые была сделана попытка последовательно соединить церковно-археологические штудии с историей искусства[3].
Среди современных исследований о церковном искусстве для нашей работы были очень важны фундаментальные труды зав. сектором Института археологии РАН д. и. н. Л. А. Беляева[4], который, кроме того, в соавторстве с д. и. н. А. В. Чернецовым опубликовал и опыт своего учебного курса[5].
Существенным вкладом в разработку темы являются учебники О. В. Стародубцева «Русское церковное искусство Х-ХХ веков»[6] и игумена Александра (Федорова) «Церковное искусство как пространственно-изобразительный комплекс»[7]. Они ценны тем, что включают общетеоретические и богословские основы церковного искусства и, кроме того, многие его произведения в хронологическом порядке по различным территориям.
Огромное значение для раскрытия содержания церковного искусства имеют посвященные отдельным его памятникам книги и статьи В. Н. Лазарева (1897–1976), М. В. Алпатова (1902–1986), Г. К. Вагнера (1908–1995). А. И. Комеча (1936–2007), В. Д. Сарабьянова (1958–2015), О. С. Поповой, Э. С. Смирновой, Г. И. Вздорнова, И. Л. Бусевой-Давыдовой, Л. И. Лифшица, Г. В. Попова, А. В. Рындиной, И. А. Стерлиговой и других известных отечественных и зарубежных историков искусства.
Несколько лет назад проблемы изучения, восприятия и преподавания церковного искусства стали объектом внимания Всероссийской конференции с участием зарубежных специалистов, что нашло отражение в сборнике ее материалов[8].
Все названные выше работы были использованы автором при написании последней редакции учебника «Церковная архитектура и изобразительное искусство»[9], сборника очерков по церковному искусству «Введение во храм»[10], а также этой книги.
* * *Автор приносит искреннюю благодарность Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, в конце 1970-х и начале 1980-х гг. – ректору Ленинградской духовной академии и семинарии, по благословению которого в Академии в 1980–1984 гг. автором был разработан и опробован первый вариант принципиально нового курса церковного искусства. Хочется выразить и глубокую благодарность коллегам из московского Свято-Филаретовского православно-христианского института, где этот курс получил дальнейшее развитие и завершение, а также из Государственной Третьяковской галереи и Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева – за высокопрофессиональную помощь и дружеское общение в годы совместной работы.
ГЛАВА I
Феномен церковного искусства
Как изучать язык церковного искусства?
Вместо эпиграфа – диалог, который состоялся в 1958 г. между советским писателем Александром Фадеевым и знаменитым художником Пабло Пикассо (особую пикантность разговору придает то, что оба его участника – коммунисты).
Фадеев: Я некоторых вещей Ваших не понимаю. Почему Вы иногда выбираете форму, непонятную людям?
Пикассо: Скажите, товарищ Фадеев, Вас учили в школе читать?
Фадеев: Разумеется.
Пикассо: А как Вас учили?
Фадеев (со своим тонким пронзительным смехом): Бе-а = ба…
Пикассо: Как и меня – ба. Ну, хорошо, а живопись Вас учили понимать?
Фадеев снова рассмеялся и заговорил о другом[11].
Проблема изучения языка искусства обозначена в этом разговоре со всей очевидностью. Особенно остро она стоит для тех, кто хотел бы понять церковное искусство и его язык. Что в нем «б»? Что «а»? Что такое «ба»? Как эти элементы вычленить? Нужно ли их вычленять? Как их складывать? Один ли язык у церковного и светского искусства? Насколько язык искусства «иностранен» для нас? Попытаемся кратко ответить на эти вопросы, начав с современной практики изучения языка искусства и возможности ее распространения на церковное искусство.
Если начинать с техники и технологии отдельных видов искусства и переходить далее к принципам выразительности, пропорциям, композиции, цвету и т. д., и взять эти элементы в качестве основы для изучения языка церковного искусства, окажется, что никакого специфически церковного, духовного искусства нет, есть лишь произведения искусства на церковный сюжет или для церковного назначения. Такой подход был свойственен преподаванию основ изобразительного искусства и истории искусства в советское время. Он вполне соответствовал идеологическому закону эпохи.
Другая крайность – противопоставление церковного христианского искусства (прежде всего средневекового) античному как «языческому», а после средневековому как «светскому». К последнему часто относят церковное искусство Западной Европы, начиная уже с XV в. (Ренессанс) и далее, а в России – со второй половины XVII в. («московское барокко» в архитектуре и «фряжская», т. е. с сильным западным влиянием иконопись), в крайнем случае – с начала XVIII (эпоха Петра I) и далее. В этом случае языком церковного искусства называют набор отдельных символов, который заменяет вышеупомянутые определения или объясняет их исключительно символически. Памятны некоторые общедоступные лекции 1970-1980-х гг., где лектор перечислял, что нужно понимать под той или иной деталью на иконе, что означает тот или иной жест, как нужно расшифровывать значение цвета и т. д., – по общему принципу «не верь глазам своим». Публика, как зачарованная, записывала все слово в слово, в полном убеждении, что теперь-то ключи от церковного искусства у нее в руках. Однако, развивая образ ключей, можно сказать, что такой перечень символов соответствует скорее набору отмычек. Пользование ими дает лишь иллюзорное обладание тем, что находится за взломанной дверью, ведь объектом восприятия становится в этом случае не само произведение, а лишь рациональная и в большой степени субъективная информация о нем.
Изучение теории и истории искусства в полном объеме не может быть массовым, искусствоведами становятся лишь после получения специального образования, в нормальном случае – высшего. Поэтому стремление составителей невероятно сложной и многоплановой школьной программы «Мировая художественная культура»[12] сделать из каждого школьника «юного искусствоведа» параллельно с его обучением часто совсем не связанным с искусством предметам вряд ли можно приветствовать. С большей вероятностью можно при этом воспитать в молодом человеке снобизм, или наоборот – вызвать у него инстинктивную отстраненность от искусства вообще, поскольку оно говорит на таком сложном языке.
С другой стороны, даже человек церковный, любящий Бога «всем сердцем, всей душой, всем разумением и всей крепостью своей» (Мк 12:30) и соприкасающийся поэтому с церковным искусством несравненно чаще, чем многие другие его соотечественники, не знает, как правило, ни языка церковного искусства, ни даже его символики. Он вынужден руководствоваться либо идеологией, разводящей «церковное» и «светское» по разные стороны баррикад, либо своими субъективными привычками и пристрастиями. Конечно, отчасти и на том, и на другом пути можно достичь некоторых положительных результатов, потому что хоть какое-то знакомство с произведениями искусства на них все же происходит. Но плоды оно приносит, скорее, вопреки существующим формам и методам их восприятия, а не благодаря им.
Вспомним основные вехи в истории изучения церковного искусства в России. И, исходя из них, наметим некоторые принципы его изучения сегодня и в ближайшем будущем.
Церковное искусство изучалось в России, начиная с XVIII–XIX вв., в рамках дисциплины «церковная археология». Эта дисциплина была прикладной и составляла часть древней истории, что соответствовало буквальному первоначальному значению слова «археология», использованного Платоном[13]. Впоследствии церковная археология стала частью литургики и, оставаясь прикладной дисциплиной, занималась внешним видом и назначением различных богослужебных предметов, а также типами храмов, христианскими надписями, условными значками и иконографией церковных изображений, т. е. в основном пояснением их сюжетов в контексте богослужебных текстов.
Прикладной характер этой науки, а кроме того ее «юность», существенно сказались на ней. Один из известных российских ученых в этой области профессор А. П. Голубцов так писал в начале ХХ в.: «Церковная археология, быть может, более чем какая-либо другая наука, обладает незавидным свойством отталкивать от себя сухостью своего содержания и отсутствием жизненного интереса»[14]. Ни об эстетической выразительности, ни о духовной символике речи при изучении церковной археологии практически не шло. Например, в монографии А. С. Уварова «Христианская символика» лишь перечислялись и расшифровывались отдельные символические изображения эпохи раннего христианства – корабль, рыба, агнец, пастырь, Орфей и другие[15]. В единственной книге по церковной археологии, в которой этот предмет ставился в связь с историей христианского искусства – учебнике Н. В. Покровского[16], – храмы, церковные изображения, облачения и сосуды описывались в хронологическом ряду, но не анализировались с точки зрения духовного и художественного содержания. Впрочем, эту книгу все же можно считать «первой ласточкой» нового подхода к преподаванию церковного искусства – в нее были включены не только византийские и русские храмы, фрески и иконы, но и художественные памятники языческой древности, и даже западноевропейская живопись на библейские сюжеты эпохи Ренессанса и барокко. Тем самым Н. В. Покровский снял с церковной археологии налет «ископаемости» и второстепенности. Он же, вопреки постановлению Святейшего Синода о запрете показа отдельных фигур и сюжетов Священного Писания вне храма в виде «туманных картин» (аналога более поздних слайдов), стал применять на лекциях проекционный фонарь[17].
Однако в дальнейшем направления в изучении церковного искусства разделились. Ряд выдающихся ученых (П. Муратов, Н. Щекотов, И. Грабарь и другие) стали рассматривать произведения древнерусского искусства в основном в эстетическом аспекте. Например, в широко известном описании академиком И. Э. Грабарем «Троицы» Андрея Рублева, цвет одежд ангелов был назван способным «…вызывать у зрителя сладостное воспоминание о зеленом, слегка буреющем поле ржи, усеянном васильками»[18]. То, что иконы в начале ХХ в. стали воспринимать с позиций высоких эстетических ощущений, как несомненную художественную ценность, было огромным завоеванием церковного искусства. Но стремление отделить иконы, храмы и т. д. от их церковного корня, растворить их в едином море мирового искусства не давало возможности найти единый синтезирующий подход к пониманию церковных художественных произведений.
Другим, в определенном смысле, оппонирующим «эстетическому», стало «богословское» направление в изучении церковной архитектуры и иконописи (Е. Н. Трубецкой, свящ. Павел Флоренский). В нем формы церковного искусства выводились исключительно из внутренней, духовной жизни церкви, из ее догматики, мистики. При этом собственно церковное искусство относилось прежде всего к средневековью, а более поздние его произведения положительно оценивались лишь постольку, поскольку несли в себе явственный отпечаток средневекового художественного строя (о. Павел Флоренский называл его «обратной перспективой»[19]).
Последовательное стремление подчеркнуть символичность как основу языка церковного искусства и противопоставить ее натуралистическому, «иллюзионистическому» языку искусства светского, пусть даже на церковный сюжет, имело свои причины. Во многом это было реакцией на общий упадок духа, на явное распространение в обществе, называвшем себя христианским, «похоти плоти, похоти очей и гордости житейской». Об этом говорил в своих лекциях об иконописи князь Евгений Трубецкой, противопоставляя «вйдение иной жизненной правды» и связанное с ним духовное единство, достигнутое в иконе, разладу и взаимному истреблению, царящим среди людей[20].
Однако метод противопоставления, при всей своей яркости и наглядности, не мог быть ни исчерпывающим, ни хоть как-то плодотворным для изучения языка искусства. Ведь искусство в этом случае оказывается «разделившимся в самом себе»: два его направления (не художники, а именно направления, духовные принципы) борются здесь друг с другом не на жизнь, а на смерть.
После октябрьского переворота победившая материалистическая идеология стала по отношению к церковному искусству пользоваться практически тем же методом, лишь поменяв полюса. Церковное искусство по своим корням было признано чуждым и даже враждебным, многие храмы разрушались, иконы часто выбрасывались и сжигались. В одной из экспозиций Третьяковской галереи 1930-х гг., вспоминал выдающийся историк искусства В. Н. Лазарев, «под иконами, являвшимися жемчужинами древнерусской живописи, были выставлены различные орудия пыток. Тем самым якобы доказывался эксплуататорский характер этой живописи, служившей в руках господствовавшего класса средством для одурманивания народа»[21].
Положительная же оценка сохранившихся памятников церковного искусства (прежде всего иконописи) производилась лишь с позиций сходства их с «реалистическими» изображениями. Так, в ликах апостолов на фресках Андрея Рублева в Успенском соборе Владимира различали черты крестьян, посадских людей и даже «передовых представителей русского общества» его времени[22] (ил. 2).

Виды перспективы. Чертеж из книги Л. Жегина «Язык живописного произведения (Условность древнего искусства)»
Вопрос о языке иконы все же был поставлен в советское время, но в завуалированной форме. Одним из примеров стала работа Ю. А. Олсуфьева, в которой содержательные вопросы иконописи не рассматривались, а речь шла о пространстве, линии, свете (в том числе – о форме и назначении световых бликов), тени и т. п[23].
Более широко вопрос языка иконы был рассмотрен в работах Л. Ф. Жегина, который занимался изображением пространства и композицией в иконописи (в основном – в 20— 30-е гг., результаты его исследований стали публиковаться лишь с 60-х гг.). Пространство иконы и, соответственно, ее композицию со сложными деформациями элементов он объяснял наличием «динамической точки зрения», требующей «суммирования зрительного впечатления»[24]. Изучение языка церковного искусства в таком ключе могло быть лишь уделом специалистов. Ведь в восприятии целостного образа главным становится рациональный момент: зритель все время помнит о принципах деформации и внутренне приспосабливает увиденное к некоему «мысленному», идеальному образу. Более того, Б. А. Успенский (в предисловии к книге Л. Ф. Жегина) писал, что только благодаря проведенной по этой системе «дешифровке» языка древнего искусства (сами произведения при этом рассматриваются как «текст» на нем) мы получаем возможность воспринимать древние изображения и даже реконструировать по ним соответствующие реальные формы[25]. Но трудно согласиться с тем, что «условные приемы передачи пространственных и временных отношений» (проблему передачи пространства и времени Б. А. Успенский считает самым важным в древних изображениях[26]) и есть язык церковной живописи и что освобождение древней системы изображения от искажающего влияния метаязыка наших представлений – единственный способ его изучения.
В конце предисловия, в чем-то не менее существенного, чем сама книга, Б. А. Успенский писал о неизбежности использования и определенного метаязыка. Под ним он понимал «некоторую формальную систему передачи содержания»[27]иконы или, более полно, «…гибкую формальную систему, способную потенциально передать любое содержание»[28]. В результате напрашивается вывод, что система Л. Ф. Жегина может помочь в изучении языка церковного искусства гораздо меньше, чем историко-эстетический метод историков искусства, которые имеют дело не столько с условными знаками, сколько с живыми ощущениями конкретных людей. Тем более что в лице таких известных ученых как М. В. Алпатов и В. Н. Лазарев отечественная наука об искусстве постепенно, хоть и не без противоречий, освобождалась от идеологических штампов и делала большой шаг вперед в изучении византийских и древнерусских церковных памятников.
Изменения проявились, в частности, в том, что к анализу произведений церковного искусства стали привлекать тексты Священного писания и богословские тексты. Первым примером органичного включения в научный оборот таких текстов и, что не менее важно, их глубоко личного осмысления, остается небольшая монография Натальи Алексеевны Деминой о «Троице» Андрея Рублева[29]. Эта книга убедительно показала, что язык церковного искусства выражает глубокие и тонкие душевно-духовные состояния, не сводимые к эстетическим переживаниям, и даже предполагает своеобразный диалог зрителя с изображением.
Именно диалог ведет к неожиданному откровению, которое и является целью изучения языка церковного искусства, как и вообще языка искусства. В таком диалоге, говоря словами одного из героев поэмы И. Бродского «Горбунов и Горчаков»: «…мы как бы приобщаемся высот, / достигнутых еще до разговора»[30]. Этому существенно мешает установка на принципиальную духовную разницу между средневековым и послесредневековым (или даже позднесредневековым) искусством, когда первое объявляется церковным, а второе – нецерковным, или хотя бы отходящим от церковности (о чем уже говорилось выше). Такие положения, скорее идеологические, чем научные и богословские, высказываются не только в церковной и околоцерковной публицистике, но и в фундаментальных работах по церковному искусству Л. А. Успенского[31].
Искусственным, на наш взгляд, является и противопоставление богословия и эстетики. На первой конференции по проблемам современной церковной живописи, проходившей в 1996 г. в Москве, один из выступавших, говоря о преподавании курса церковной археологии в Московской духовной семинарии, раскритиковал его, назвав «более историко-искусствоведческим, нежели богословским», и внес предложение: «…будущим священникам преподаваться должно все-таки и прежде всего богословие иконы (а не история эстетики)»[32].
Однако отрадно было видеть, что в церковной среде существует и подход, направленный на осознание целостности церковного искусства. Например, по словам одного из участников этой конференции, иконописца: «Преувеличенное противопоставление иконописания якобы «светской» живописи, а на самом деле – живописи как таковой, не соответствует сегодня развитию иконописания». Он призывал также к овладению общими законами изобразительного искусства, развитию художественного мышления и т. п., что, по его мнению, «позволяет выработать живой, внятный язык современной иконы»[33].
Подведем итоги.
• Приобщать к живому, подлинному творчеству, которое ощутимо проявляется в памятниках церковного искусства (что отмечается как верующими, так и неверующими), лучше всего через «погружение» в него. Так иностранный язык (поскольку и язык церковного искусства, и язык искусства вообще стал для большинства наших современников иностранным) наиболее эффективно постигается вхождением в среду носителей этого языка.
• В большой степени такое «погружение» достигается в целостных (желательно – авторских, уникальных, а не универсальных) курсах церковного искусства, в которых преподавателем, помимо общего материала, может быть максимально передан личный опыт восприятия церковной архитектуры, живописи и прикладного искусства.
• Для наиболее органичного соединения традиций церковной археологии и искусствоведения в этих курсах специфически богословский материал (особенно догматика) по возможности должен выноситься за скобки. Причина в том, что «богословие иконы» и «богословие архитектуры» и т. п. для людей, впервые всерьез соприкасающихся с церковным искусством, легко может закрыть собой и икону, и храмовую архитектуру. То же касается и специфически научного материала.
• Чтобы плодотворно изучать язык церковного искусства, нужно подолгу внимательно всматриваться в то, что создано в этой области, размышлять о своих впечатлениях, пытаться сопоставлять их с известными положениями церковной традиции и светской науки, причем, что принципиально важно, – без поспешных оценок самих произведений. Необходимо сравнивать и эти произведения между собой. Цель сравнения – выяснить, достигнута ли и как достигнута их главная цель: явить человека и вместе с ним – окружающий его мир, преображающимся «от славы в славу» (2 Кор 3:18).
• Язык церковного искусства – один из «языков» Церкви. Но с другой стороны – он сроден каждому из нас. Ведь любой человек – образ и подобие Божье (Быт 1:26–27), т. е. буквально – «икона Божья», хотя и нуждающаяся часто в серьезной «реставрации». Поэтому в лучшие моменты своей жизни мы вдруг обретаем способность постигать этот язык хотя бы на некоторое время. А это стимулирует интерес к его дальнейшему изучению больше, чем любое специальное руководство.
Парадоксы «обмирщения» храмовой архитектуры и живописи
Что такое «обмирщение церковного искусства», позитивное это явление или негативное, и, если негативное, как можно ему противостоять?
Существует формальное основание считать само вхождение искусства в церковь вторжением в нее «мира сего», – ведь Священное писание первыми «деятелями искусства» называет потомков Каина (Быт 4:21). Такой радикализм легко отвергнуть после знакомства с лучшими образцами средневекового церковного искусства.




