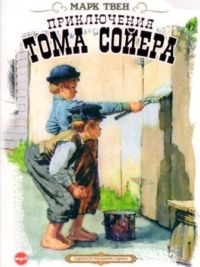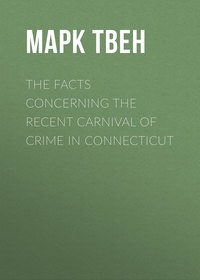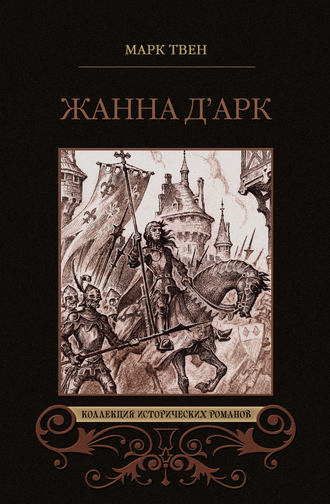
Полная версия
Жанна д'Арк
– Садись на место!
Грозный окрик этот исходил от старого Жака д’Арк и обращен он был к Жанне. Незнакомец вздрогнул и отнял руку от лица: перед ним стояла Жанна, предлагая свою миску с похлебкой.
Он произнес:
– Господь Всемогущий да благословит тебя, дитя мое! – И слезы ручьем потекли по его щекам, но он не смел принять миску.
– Слышишь? Садись на место, говорю тебе!
Не было ребенка уступчивее Жанны, но не так надо было ее уговаривать. Этого искусства ее отец не знал – да и не мог бы ему научиться. Жанна ответила:
– Батюшка, ведь он голоден – я же вижу.
– Пусть тогда заработает себе на хлеб. Такие молодчики объедают нас, выживают из дому, и я сказал, что больше этого не потерплю, и сдержу свое слово. В нем по лицу сразу узнаешь мошенника и негодяя. Садись, садись, говорят тебе!
– Я не знаю, негодяй он или нет, но он голоден, батюшка, и он получит мою похлебку – мне не хочется есть.
– Если ты не послушаешь меня, я… Негодяям вовсе не пристало приходить за едой к честному люду, и они не получат в этом доме ни куска, ни глотка! Жанна!!
Она поставила миску на крышку сундука, подошла и, став перед нахмуренным отцом, сказала:
– Батюшка, если ты не разрешишь мне, то пусть будет по-твоему. Но мне хотелось бы, чтобы ты задумался, тогда ты увидишь, что несправедливо было бы наказывать одну часть его тела за то, в чем повинна другая; ведь в злых делах повинна голова этого бедного путника, но не голова его голодна – голодает желудок, который никому не причинил вреда, желудок, который не заслужил упрека и ни в чем не повинен и не сумел бы совершить преступление, даже если бы желал. Пожалуйста, позволь…
– Что это ты мелешь? Да я такой чепухи отроду не слыхивал!
Но тут вмешался Обре, сельский староста, любитель словопрений и большой мастер по этой части, как все единодушно признавали. Встав со своего места и опершись руками на стол, он с непринужденным достоинством посмотрел вокруг себя, как подобает оратору, и начал говорить плавно и убедительно:
– Я не разделяю вашего мнения, кум, и беру на себя задачу доказать всем присутствующим, – тут он обвел нас взором и самоуверенно кивнул головой, – доказать, что в словах ребенка есть здравый смысл. Видите ли, в чем дело: не подлежит сомнению та непреложная и легко доказуемая истина, что голова человека есть властелин и верховный правитель всего тела. Допускаете? Не желает ли кто возразить? – Он опять глянул кругом: все выразили согласие. – Ну и отлично. А раз это так, то ни единая часть тела неответственна, если она исполняет приказание, отданное головой; ergo[7], только голова ответственна за преступления, совершенные руками человека, или его ногами, или желудком. Понимаете вы мою мысль? Прав ли я пока?
Все ответили «да!» – и ответили с восторгом, а иные говорили друг другу, что староста сегодня в ударе, как никогда. Это очень понравилось старосте, так что его глаза засверкали от удовольствия: похвалы не прошли мимо его ушей. И он продолжал тем же богатым и блестящим словом:
– Ну, рассмотрим же теперь, что такое – понятие об ответственности и какую роль оно занимает в разбираемом вопросе. Ответственность делает человека ответственным только за те деяния, за которые он ответствен в собственном смысле слова, – и он сделал широкий взмах ложкой, чтобы подчеркнуть обширность природы всех тех ответственностей, которые возлагает на людей ответственность.
Некоторые из слушателей благоговейно воскликнули: «Он прав! Он сумел выложить всю эту путаницу как на ладони! Просто диво!»
Он на минуту остановился, для вящего поощрения и усиления любопытства, и заговорил снова:
– Прекрасно. Предположим такой случай: щипцы упали человеку на ногу и причинили жестокую рану. Станете ли вы утверждать, что щипцы подлежат за это наказанию? Вы уже ответили на вопрос: по вашим лицам вижу, что вы сочли бы подобное утверждение нелепым. Ну а почему же оно нелепо? Оно нелепо потому, что поскольку щипцы не обладают способностью мышления – иными словами, способностью лично распоряжаться своими действиями, – то личная ответственность за поступки щипцов безусловно лежит вне пределов щипцов; а следовательно, раз нет ответственности, не может возникнуть и наказание. Не правда ли? – (Гром горячих рукоплесканий послужил ему ответом.) – Ну вот, мы теперь подошли к желудку человека. Заметьте, в каком точном, дивном соответствии находятся роль щипцов в разобранном случае и роль желудка. Слушайте и, прошу вас, замечайте хорошенько. Может ли человеческий желудок замыслить убийство? Нет. Может ли он задумать кражу? Нет. Может ли он задумать поджог? Нет. А теперь ответьте – могут ли затеять все это щипцы? – (Возгласы восторга: «Нет! Оба случая точь-в-точь одинаковы! Как великолепно он все разобрал!») – Итак, мои друзья и соседи, желудок, который не может задумать преступление, не может быть и главным его исполнителем – видите, это ясно, как божий день. Итак, вопрос уже вложен в тесные рамки; мы сузим его еще более! Может ли желудок по собственному побуждению быть пособником преступления? Конечно, нет, ибо отсутствует повеление, отсутствует мыслительная способность, отсутствует сила воли, как и в случае со щипцами. И теперь мы понимаем – не так ли? – что желудок совершенно безответствен за преступления, совершенные им полностью или отчасти. – (Единодушный ропот одобрения.) – Тогда каков же будет наш приговор? Да, очевидно, мы должны признать, что в нашем мире не существует виновных желудков; что в теле величайшего негодяя все-таки находится непорочный и безобидный желудок; что, каковы бы ни были поступки его господина, он, то есть желудок, в наших глазах должен быть свят; и что, раз Господь одарил нас разумом, способным думать справедливо, великодушно и благородно, то мы должны почитать не только своим долгом, но и своим преимуществом накормить голодный желудок, который пребывает в негодяе; мы должны сделать это не только из сострадания, но и в знак радости и благодарности, в воздаяние заслуг желудка, который мужественно и честно отстаивал свою чистоту и непорочность, невзирая на окружающий соблазн и на тесное соседство того, что так противоречит его лучшим чувствам! Я кончил.
Вам, я уверен, никогда не приходилось видеть такую восторженную картину! Они встали – все собрание встало – и начали хлопать в ладоши, кричать «ура», и превозносить оратора до небес; и один за другим, не переставая рукоплескать и кричать, они подходили к нему – иные со слезами на глазах – и пожимали ему руки и говорили ему столько хорошего, что он был прямо-таки вне себя от гордости и счастья и не мог сказать ни слова – да он и не в силах был бы перекричать их. Торжественное было зрелище. И каждый говорил, что ему никогда не приводилось в своей жизни слышать подобную речь, да никогда и не придется. Красноречие – сила, в этом не может быть сомнения. Старый Жак д’Арк и тот увлекся, хоть один раз в жизни, и крикнул:
– Ладно, Жанна, дай ему похлебки!
Она была смущена и, по-видимому, не знала, что сказать. Дело в том, что она уже давным-давно отдала незнакомцу похлебку, и он уже успел всю ее прикончить. Ее спросили, почему она не подождала, пока не вынесут решения. Желудок человека, отвечала она, чувствовал голод, и неразумно было бы ждать, так как она не знала, каково будет решение. Ребенок, а какую она высказала добрую и дальновидную мысль.
Человек вовсе не оказался негодяем. Он был очень славный парень, только ему не повезло, а это, конечно, не считалось во Франции преступлением в те времена. Так как теперь уже была доказана невиновность его желудка, то сей последний получил разрешение чувствовать себя как дома; и лишь только он хорошенько наполнился и получил удовлетворение, как у человека развязался язык, который оказался большим мастером своего дела. Путник много лет провел на войне, а его рассказы и его манера рассказывать высоко подняли в нас чувство любви к отечеству, заставили биться наши сердца и разгорячили нашу кровь. И прежде чем кто-либо сумел понять, как произошла перемена, он увлек нас в дивное странствие по высотам былой французской славы; и грезилось, что на наших глазах воскресают стихийные образы двенадцати паладинов[8] и становятся лицом к лицу со своей судьбой; нам слышался топот бесчисленных полчищ, стремившихся вниз по ущелью, чтобы закрыть им путь к отступлению; мы видели, как этот живой поток набегал и как волна откатывался назад, видели, как он таял перед горстью героев; мы во всех мелочах видели повторение этого грозного и несчастнейшего и в то же время наиболее дорогого нам и прославленного дня легендарного прошлого Франции; среди необъятного поля, где лежали убитые и умиравшие, то здесь, то там виден был один из паладинов; слабеющей рукой, собрав остаток сил, они продолжали геройскую сечу, и все они, друг за другом, пали на наших глазах, пока не остался только один – тот, кому не было равного, тот, чье имя послужило названием «Песни Песней», а эту песнь ни единый француз не может слышать без воодушевления, без гордости за свою отчизну. А затем – зрелище наибольшего величия и скорби! – мы увидели и его горестную кончину; мы, затаив дыхание, с пересохшими губами ловили каждое слово рассказа, и в нашем безмолвии был отзвук того грозного безмолвия, которое царило на этом необъятном поле брани, когда отлетала душа последнего героя.
И вот незнакомец, среди этого торжественного молчания, погладил Жанну по головке и молвил:
– Маленькая дева, да сохранит тебя Господь! Нынче ночью ты возвратила меня от смерти к жизни. Послушай: вот тебе награда!
То была минута, которая давно соответствовала этой вдохновенной, стихийно увлекательной неожиданности: не сказав более ни слова, он возвысил голос, исполненный благородного и страстного одушевления, и полилась великая «Песнь о Роланде»!
Подумайте, как это должно было подействовать на взволнованных и разгоряченных слушателей, сынов Франции! О, куда девалось ваше деланое красноречие? Чем оно показалось бы теперь? Каким прекрасным, статным, вдохновенным певцом стоял он перед нами, с этой песнью на устах и в сердце! Как он весь преобразился и куда девались его лохмотья!
Все поднялись и продолжали стоять, пока он пел. Лица у всех разгорелись, глаза сверкали, по щекам лились слезы.
Невольно все начали раскачиваться в такт песни; послышались вздохи, стоны, возгласы горя; вот раздались последние слова: Роланд лежал умирающий, один-одинешенек, обратив лицо к полю битвы, где рядами и грудами лежали погибшие, и ослабевшей рукой протянул к престолу Всевышнего свою латную рукавицу, и с его бледнеющих уст слетела дивная молитва; тут все разразились рыданиями. Но когда замерла последняя, величественная нота и кончилась песня, то все, как один человек, бросились к певцу, словно помешавшись от любви к нему, от любви к Франции, от гордого сознания ее великих дел и древней славы, – и начали душить его в объятиях; но впереди всех была Жанна, которая прильнула к его груди и покрывала его лицо поцелуями страстного благоговения.
На дворе бушевала метель, но это уже было безразлично: приют незнакомца был теперь здесь, и он мог оставаться сколько ему угодно.
Глава IV
У всех детей есть прозвища; так было и у нас. С малых лет каждый получал какое-нибудь прозвание, и оно за ним оставалось. Но Жанна была богаче: с течением времени она снискала себе новое прозвище, потом третье и так далее; наконец, у нее набралось их с полдюжины. Некоторые прозвища остались за ней навсегда. Крестьянские девушки вообще застенчивы; но она этим свойством так выделялась, так быстро краснела от малейшей причины, так сильно смущалась в присутствии незнакомых людей, что мы прозвали ее Стыдливой. Мы все были патриоты, но настоящей Патриоткой называлась она, потому что самые горячие наши чувства к родине показались бы ничтожными в сравнении с ее любовью. Называли ее также Красавицей – не только за необычайную красоту ее лица и стана, но и за прелесть ее душевных качеств. Все эти имена она оправдывала, как и другое прозвище – Храбрая.
Мы подрастали среди этой трудолюбивой и мирной обстановки и мало-помалу превратились в довольно больших мальчиков и девочек. Воистину мы были уже достаточно велики, чтобы не хуже старших понимать насчет войн, непрерывно свирепствовавших на севере и на западе; и мы уже не меньше старших волновались из-за случайных вестей, доходивших до нас с тех кровавых полей. Я очень хорошо помню несколько таких дней. Как-то во вторник мы толпой резвились и пели вокруг Древа Фей и вешали на него гирлянды в память о наших утраченных маленьких приятельницах. Вдруг маленькая Менжетта воскликнула:
– Гляньте-ка! Что это такое?
Подобный возглас, выражающий удивление и испуг, всегда привлекает общее внимание. Мы все столпились в кучку; сердца трепетали, лица разгорелись, а жадные взоры были все направлены в одну и ту же сторону – вниз по откосу, туда, где находилась деревня.
– Да ведь это черный флаг.
– Черный флаг? Нет… будто бы?
– У самого глаза есть, не видишь, что ли?
– А ведь взаправду – черный флаг! Случалось ли кому видать такую штуку раньше?
– Что бы это значило?
– Что? Это должно означать что-нибудь страшное, уж не без того!
– Не про то говорю, это и так понятно. Но что именно – вот вопрос.
– Вероятно, тот, кто несет флаг, сумеет ответить не хуже любого из нас – только имейте терпение, пока он подойдет.
– Бежит-то он шибко. Кто это такой?
Одни называли одного, другие – другого; но вот все уже могли разглядеть, что это Этьен Роз по прозвищу Подсолнечник, потому что у него были желтые волосы и круглое, покрытое рябью от оспы лицо. Его предки несколько сот лет тому назад переселились из Германии. Он во всю мочь спешил вверх по откосу и время от времени подымал над головой древко, развертывая в воздухе черное знамение скорби, между тем как все глаза следили за ним, все уста говорили о нем, и все сердца ускоренно бились от нетерпеливого желания узнать его новости. Наконец он подбежал к нам и, воткнув древко флага в землю, сказал:
– Вот! Стой здесь и будь олицетворением Франции, покуда я переведу дыхание. Франции больше не нужно иного знамени.
Замолкла беспорядочная болтовня. Словно весть о смерти нагрянула к нам. Среди этой жуткой тишины слышно было только прерывистое дыхание запыхавшегося гонца. Собравшись с силами, мальчик заговорил:
– Пришли черные вести. В Труа заключен договор[9] между Францией и Англией с их бургундцами. В силу договора Франция предательски отдана во власть врагу, связанная по рукам и ногам. Все это придумано герцогом Бургундским и этой ведьмой – королевой Франции[10]. Решено, что Генрих[11] английский женится на Катерине[12] Французской…
– Неужели это не ложь? Дочь Франции выйдет за азенкурского мясника? Возможно ли поверить этому! Ты, наверное, что-то слышал, да перепутал.
– Если ты этому не можешь поверить, Жак д’Арк, то тебе предстоит нелегкая задача, потому что надо ждать еще худшего. Дитя, которое родится от этого брака, будь то даже девочка, унаследует себе обе короны, английскую и французскую; и такое совмещение двух королевств будет принадлежать их потомству навеки.
– Ну, это уж точно ложь, потому что это было бы противно нашему салическому закону[13], а значит, это беззаконие, этому не бывать! – сказал Эдмонд Обре, прозванный Паладином за привычку хвастать, будто он в один прекрасный день разобьет в пух и прах неприятельскую рать. Он сказал бы больше, если бы его не заглушили возгласы остальных: все возмущались этой статьей договора, все заговорили в один голос, и никто не слушал других. Наконец Ометта уговорила их попритихнуть, сказав:
– Зачем же перебивать его на половине рассказа? Дайте ему, пожалуйста, закончить. Вы недовольны этим рассказом, потому что он вам кажется ложью. Будь это ложь – нам пришлось бы ликовать, а не гневаться. Досказывай, Этьен.
– Сказ невелик: наш король, Карл Шестой[14], останется на престоле до своей смерти, затем вступает во временное управление Францией Генрих Пятый Английский, пока его ребенок не подрастет настолько, чтобы…
– Этот человек будет править нами – мясник? Это ложь! Сплошная ложь! – вскричал Паладин. – Подумай к тому же, а дофин[15] куда денется? Что сказано о нем в договоре?
– Ничего. У него отберут престол, а сам пусть идет, куда хочет.
Тут все загалдели в один голос, говоря, что в известии нет ни словечка правды. И все даже развеселились. «Ведь король наш, – успокаивали мы себя, – должен был бы подписать договор, чтобы он вошел в силу; а как же он мог бы дать свою подпись, видя, что это погубило бы его собственного сына?»
Но Подсолнечник возразил:
– А я тоже задам вам вопрос, подписала бы королева договор, лишающий ее сына наследства?
– Эта змея? Конечно. О ней и речи нет. От нее и нельзя ждать лучшего. Нет такой низости, за которую она не ухватилась бы, – лишь бы насытить свою злобу; она ненавидит своего сына. Но ее подпись не имеет значения. Подписать должен король.
– Спрошу у вас еще одну вещь. В каком состоянии король? Безумный он или нет?
– Да, он безумен, и народ любит его за это еще больше. Он ближе к народу благодаря своим страданиям; а жалость к нему переходит в любовь.
– Правильно сказано, Жак д’Арк! Ну, так чего же вы ждете от того, кто безумен? Знает ли он, что делает? Нет. Делает ли он то, к чему побуждают его другие? Да. Теперь я могу сообщить вам, что он подписал договор.
– Кто заставил его сделать это?
– Вы знаете и так – мне незачем было бы говорить: королева.
Снова раздался единодушный крик негодования; все заговорили одновременно, и каждый призывал проклятия на голову королевы. Наконец Жак д’Арк сказал:
– Но ведь сплошь и рядом приходят неверные вести. Не было еще слухов ни о чем столь постыдном, как это, ни о чем столь мучительном, столь унизительном для Франции. Поэтому есть еще надежда, что этот рассказ – тоже лишь злая молва. Где ты об этом услышал?
На его сестре, Жанне, не было лица. Она боялась ответа, и предчувствие не обмануло ее.
– Мы узнали от священника из Максе.
Все замерли. Мы, видите ли, знали этого кюре как человека правдивого.
– А он сам считает ли это правдой?
У всех нас сердца почти остановились. Ответ гласил:
– Да. Мало того, не только считает, но, по его словам, знает, что это правда.
Некоторые девочки заплакали; у мальчиков словно отнялся язык. Скорбь на лице Жанны была подобна тому выражению страдания, которое появляется в глазах бессловесного животного, получившего смертельный удар. Животное терпит муку без жалобы; так и Жанна не говорила ни слова. Ее брат Жак гладил ее по голове и ласкал ее локоны, чтобы показать свое сочувствие, и она прижала его руку к губам, целуя ее в порыве признательности и не произнося ни слова. Наконец миновала самая тяжелая минута, и мальчики начали говорить. Ноэль Рэнгесон воскликнул:
– Ах, неужели мы никогда не сделаемся мужчинами! Мы растем так медленно, а Франция никогда еще не нуждалась в солдатах так, как теперь, чтобы смыть это пятно позора.
– Я ненавижу эту пору юности! – сказал Пьер Морель, прозванный Стрекозой за свои выпученные глаза. – Все жди, жди, жди, а тем временем уж сто лет тянутся эти войны, и тебе так и не привелось до сих пор попытать счастья.
– Ну, что касается меня, так мне не придется долго ждать, – заметил Паладин, – и уж когда я вступлю на военное поприще, то вы услышите кое-что обо мне, ручаюсь за это. Иные предпочитают, беря штурмом крепость, оставаться в задних рядах; а на мой вкус – дайте мне место впереди всех или же вовсе не надо. Я не желаю, чтобы впереди меня был кто-нибудь, кроме офицеров.
Даже девочкам передался воинственный пыл, и Мэри Дюпон сказала:
– Я бы хотела быть мужчиной. Я бы отправилась сию же минуту! – И она осталась очень довольна своими словами и гордо посмотрела вокруг себя, ожидая похвал.
– Я тоже! – заявила Сесиль Летелье, раздувая ноздри, словно боевой конь, который почуял поле битвы. – Могу поручиться, что я не пустилась бы в бегство, хотя бы очутилась лицом к лицу со всей Англией.
– Хо-хо! – произнес Паладин. – Девчонки умеют хвастаться, но больше они ни на что не способны. Пусть-ка тысяча их выступит против горсти солдат – вот тогда вы посмотрите, что значит быстро бежать. Вон наша Жанночка – недостает, чтобы еще она затеяла пойти в солдаты!
Мысль была так забавна и вызвала такой дружный смех, что Паладин попытался продолжить шутку:
– Вы можете как воочию представить ее себе: вот она устремляется в битву, словно опытный ветеран. Да, именно так; и не какой-нибудь жалкий, простой солдат вроде нас – нет, она будет офицером, заметьте, и у нее будет шлем с забралом, чтобы скрыть румянец смущения, когда она увидит перед собой армию незнакомых людей. Офицером? Непременно так – ей дадут чин капитана! Она будет капитаном, и ей дадут команду в сто человек – или, быть может, девушек. О, не такова она, чтобы быть простым солдатом! Боже ты мой, каким ураганом она налетит на вражескую армию и сомнет ее!
И он продолжал все в том же роде, так что все хохотали до слез, да оно и неудивительно: что могло быть (в то время) забавнее предположения, что вот это кроткое маленькое создание, которое мухи не обидит, которое не выносит вида крови и вообще так девственно и пугливо, – что оно ринется в битву, ведя за собой толпу солдат? Бедняжка, она сидела смущенная, не зная, куда деться от сыпавшихся со всех сторон насмешек. А между тем как раз в ту минуту подготовлялось событие, которое должно было изменить общую картину и показать всей этой детворе, что прав тот, кто смеется последним. Как раз тогда из-за Древа Фей показалось хорошо знакомое и внушавшее нам страх лицо; и нас всех обожгла мысль, что шальной Бенуа убежал на свободу и что мы на волосок от смерти! Это оборванное, косматое и страшное чудовище выскочило из-за дерева и направилось к нам с поднятым топором. Мы все бросились кто куда, все девочки завизжали и заплакали. Нет, не все; все, кроме Жанны. Она встала, повернулась лицом к безумцу и осталась стоять. Мы быстро достигли леса, опушка которого примыкала к поляне, и спрятались под его защиту; кое-кто оглянулся назад, чтобы узнать, не догоняет ли нас Бенуа, и вот что мы увидели: Жанна стоит, а безумец, высоко подняв топор, приближается к ней. Зрелище, полное ужаса. Мы остановились как вкопанные; мы не могли двинуться с места. Я не желал видеть, как совершится убийство, и в то же время не мог отвести взгляд. Вот я вижу, что Жанна пошла навстречу человеку, – и не верю глазам. Вижу – он остановился. Погрозил ей топором, словно предупреждая, чтобы она не шла дальше, но она, не обращая внимания, идет – подошла к нему лицом к лицу, как раз под топор. Остановилась и, по-видимому, заговорила с ним. Я вдруг почувствовал тошноту, голова закружилась, все вокруг меня пошло ходуном, и не знаю, долго ли, коротко ли, но некоторое время я не мог ничего видеть. Когда это прошло и я глянул снова, Жанна шла рядом с человеком, держа его за руку; в другой ее руке был топор. Они направлялись к деревне.
Мальчики и девочки, друг за дружкой, начали выползать из зарослей, и мы стояли, разинув рты, и во все глаза смотрели на тех двоих, пока они не вошли в деревню и не скрылись из виду. Вот тогда-то мы и прозвали ее Храброй.
Черный флаг мы оставили на том же месте, чтобы он исполнял свой печальный долг, а нам надо было теперь подумать о другом. Бегом пустились мы в деревню, чтобы предупредить народ и спасти Жанну от опасности. Хотя, думается мне, раз теперь топор был у Жанны, то преимущество оказалось бы не на стороне безумца. Мы прибежали, когда опасность уже миновала: сумасшедшего заперли. Все население спешило на маленькую площадь перед церковью, чтобы поговорить, поахать и подивиться; часа на два были забыты даже мрачные вести о договоре.
Женщины наперебой обнимали и целовали Жанну, хвалили ее и плакали, а мужчины гладили ее по голове и говорили, что ей бы следовало родиться мужчиной – тогда ее послали бы на войну, и уж наверно она заставила бы говорить о своих подвигах. Ей пришлось вырваться из объятий и прятаться: такая слава была слишком тяжелым испытанием для ее скромности.
Само собой, начали расспрашивать у нас подробности. Мне было так стыдно, что я постарался отделаться от первого же посетителя и потихоньку убежал назад, к Древу Фей, где я был бы избавлен от этих мучительных для моего самолюбия вопросов. Там я застал Жанну, которая искала спасения от тягости славы. Мало-помалу присоединились к нам и остальные, тоже спасавшиеся от допроса. Тут мы окружили Жанну, спрашивая, как это она набралась такой смелости. Она отвечала нам очень скромно и сдержанно:
– Вы поднимаете из-за этого много шума, но вы не правы: дело вовсе не стоит того. Он мне вовсе не чужой человек. Я знаю его и знала с давних пор; он тоже знает меня и любит. Много раз я протягивала ему пищу через решетку его клетки; а когда в последнем декабре ему отрубили два пальца, чтобы он боялся хватать и наносить раны прохожим, – то я перевязывала ему каждый день руку, пока она не зажила.