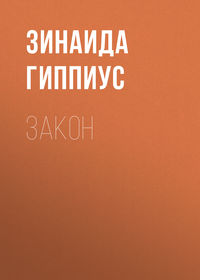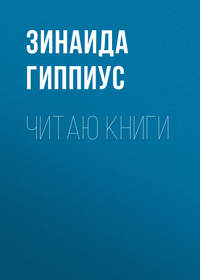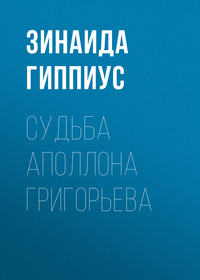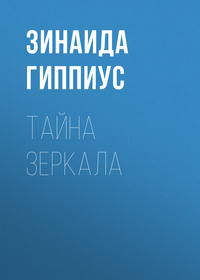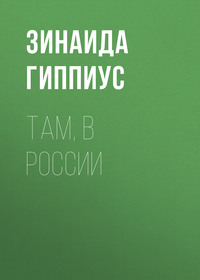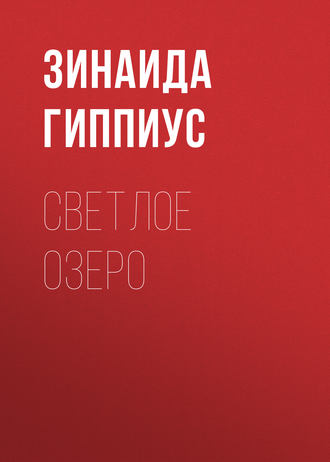 полная версия
полная версияСветлое озеро
На палубе не веселее. Бегают скверно одетые дети, стуча сапогами. У кают-компании второго класса примостились на скамейках тетки с вязаньями. Им молоденькая девушка в кожаном поясе и ситцевой блузке прочувствованным голосом читает знаменитое, потрясающе уродливое и пошлое стихотворение Навроцкого «Утес на Волге». Видно, нарочно книжку взяли на пароход. Тетки довольны очень. Довольна и незамысловатая барышня.
Ничего, занятно наблюдать. Но вскоре опять скучно. Берега плывут, плывут… Назойливые и наглые чайки так и чертят с визгами у самых бортов. Внизу палубные пассажиры сидят смирно и все что-то жуют.
Закат лилово-красный, точно мой букет с поляны старца Софонтия.
30 июня. Воскресенье
Опять в X., рано утром, в той же гостинице (где уже нам все приготовили). Не успели опомниться, умыться как следует, – от губернатора прислали лошадей, как раз сегодня – освящение старинной церкви Ильи Пророка, восстановленной местным миллионером и городским головой – Сандулеевым.
Спутник мой стал было отнекиваться, – не выспались мы и устали, – но я стремлюсь решительно. Церковь великолепная, одна из самых лучших и старых в X.
Часов около одиннадцати – едем. Пристава провели нас вперед. Служба шла соборне, с архиепископом.
Мы попали к Херувимской. Пение прямо небесное. Старинные Х-ские напевы. «Херувимская», «Достойно» и запри-частный стих особенно великолепны.
Очень хорошо и глубоко – архиерейское перекрещивание светильников.
Кончилось. Какой-то старичок во фраке прочел адрес, обращенный к Сандулееву. Сандулеев стоял тут же, небольшой, не толстый, с яйцеобразной лысоватой головой, с рас-чувствованным лицом. В адресе все повторялось слово «изящный» и «изящество».
Потом вышел на амвон архиепископ. Он весь великолепен, грузен, с большими чертами лица, глуховат, но еще бодр, несмотря на свои восемьдесят семь лет. Произнес речь, обращенную к Сандулееву.
– Теперь приблизьтесь, Николай Семенович.
Николай Семенович приблизился, и архиепископ вручил ему икону Ильи Пророка, с которой одаренный долго не знал, что делать, и наконец положил на аналой в сторонке.
Затем уже все окончательно окончилось, пошли к кресту. Губернатор познакомил нас с Сандулеевым и его женой, и они тотчас же пригласили нас к завтраку. Едем туда.
Растреллиевские покои с богатым (конечно, не весьма подходящим) убранством. На лестницу всходим вслед за архиепископом, которого медленно вводят наверх под руки. Жена Сандулеева – маленькая, полуполная, бледная и тихая женщина. Были какие-то и другие городские дамы.
В громадной зале накрыт стол, – покоем. Видны старания пышности. Печатное «menu»[3]. Народу – без конца. Наискосок от меня, против архиепископа, – сидит худенький, беловолосый профессор Б., известный знаток раскола и русской древности. Прибыл на торжество. Очень выдержанный тип старого московского профессора. Весел чрезмерно, подвижен, хохотлив, любит торжественные завтраки и обеды. С почтенным архиепископом они в каком-то городе во дни юности вместе пребывали. И Б. не уставал вспоминать.
– Владыко, вы все мои увлечения знали. Как я из Петербурга пальто выписал, чтобы под ноги барышне подстелить. А она прошла – и засмеялась. И как я на кровле сидел и в трубу издали на барышню смотрел, от природы будучи робок. Помните, владыко?
Сам заливается – хохочет. Губернатор, который отделяет меня от архиепископа, и я – тоже принимаем участие в разговоре.
Спрашиваю владыку, поощрял он или порицал увлечения даровитого юноши. Глуховатый пастырь, уразумев вопрос, отвечает:
– Поощрял, поощрял…
И долго еще качает утвердительно головой.
Начались многочисленные речи. Б. говорил даже стихами.
Едва в четыре часа мы вырвались домой – объевшиеся, и голова кружилась.
В семь – обедать к губернатору.
Дом губернатора – удивительный, строгий, кажется, екатерининских времен. Балкон на Волгу, с другой стороны – широкий тенистый сад, весь душистый от цветочных ковров. Обедали в саду. Общество не очень большое, все больше приезжие (и профессор Б. здесь) – вице-губернатор и Р-ский (уездный) предводитель дворянства, барон Z. Старинный городок Р-ва, когда-то называвшийся «великим», – теперь маленький уездный городок Х-ской губернии, всего в полутора часах езды от X. Барон, тамошний предводитель дворянства, предпочитает жить в X. В Р-в мы собираемся съездить завтра, от утра до вечера.
Был еще за обедом один профессор местного лицея, Гур-нд. Молод, молчалив, самодоволен, в высшей степени неприятен. Грубый материалист. Мы с ним сразу столкнулись. Но и спорить не стоило. Оставить мертвеца хоронить мертвецов, прелестного Гур-нда – делать свою карьеру.
После обеда пошли на балкон пить кофе и засиделись до темноты. Б. стал серьезнее, говорил о своем. (Собеседник он плохой, не слушает и не вникает в чужое. Грех многих.)
Говорил, между прочим, что старообрядцы правы в своих суждениях…
Пытаюсь возразить на это, что православная церковь более права, если она допускает оба креста, оба перстосложения, допускает этим кое-какую свободу, движение, а потому «история – за нее», с нею, а не с расколом.
Далее Б. рассказывал, как к нему пришел однажды вечером Лев Толстой, собираясь писать роман из эпохи Петра I. (Давно это было!) Толстой сказал Б-у, что «все понимает в этой эпохе, а раскола не понимает». Сидели в то время у Б. в кухне крестьяне. Поговорив с Л. Толстым о расколе (ничего особенно не выяснив), Б. позвал крестьян. Крестьяне были, кажется, вовсе не раскольники, но в те времена Лев Толстой не знал хорошо ни тех, ни других. Он долго говорил с ними, расспрашивал, как они Богу молятся. Те ему что-то говорили: «Подай, Боже, чтобы на полях у нас колосилось, на лугах ворошилось, на дворах плодилось…» И Толстой был в восторге от этих жизненных прошений.
1 июля
Едем на целый день в Р-в.
С нами едет и барон Z – показывать «свой» город. Баронесса (ее вчера не было у губернатора) – une jolie laide[4], молодая дама не без приветливой наивности; очень хотела с нами познакомиться. Сам барон – белокур, весел. Оба супруга довольно приятны.
Кроме того, на завтраке у головы мы познакомились со здешним, Р-ским, меценатом Деевым, любителем и хранителем р-ской старины.
Здешний музей обязан существованием только ему. Де-ев – пожилой, сухой, живой и быстрый человек. Русский американец. У него сегодня будем обедать.
В соборе нас встретил протоиерей. Сначала он меня возмутил. Начал голосом, которым отвечают уроки и который я называю «зубрильным» – явно заученную наизусть историю собора, с годами и т. д.
– Когда же изменники-поляки…
Гул идет по церкви.
Но потом он оказался милым и простым. Ходил с нами по церкви. Указал на один, действительно прекрасный, образ Иоанна Богослова. Лучший, какой мы где-либо видели.
В саду, в беседке, слушали звоны знаменитых Р-ских колоколов – Сысоя Великого и Полиелея. Протоиерей махал белым платком – и гудели колокола, старые, согласные, спевшиеся, чуть-чуть уставшие, но покорные.
Услышав колокола – явился к нам и Деев. Тут же в Кремле, пошли по всем церквам. Кроме протоиерея, сопровождал нас еще один священник. Нет счета церквам, теремам, переходам и дворам, по которым мы ходили.
Я не пишу указателя Р-ских достопримечательностей, а потому и не буду здесь вдаваться в подробные их описания. Описания эти есть в многочисленных брошюрах и каталогах Деева и… кажется, в Бедекере на французском языке. Но как хороша стенная живопись! Крылатые Предтечи повсюду. А в одном из алтарей, на дальней стене, есть даже дивный образ длиннокрылой Богоматери, кажется, единственный. Удивительна одна церковь – стройностью, красотой и тайной разноцветных стекол.
В этой церкви к нам присоединилась дочь Деева, приехавшая из имения. Милая девушка, неожиданно культурная, образованная. Она долго пробыла в Берлине, все читала, без Ницше «жить не может», и нас обоих знает и любит.
Обедаем у Деевых, вместе с баронами.
«Домик» ничего, видно, что «мецената». После обеда опять отправились – сначала в музеи, а потом взобрались на высокую деревянную… колокольню? над озером, откуда виден весь Р-в Великий.
Как город – он захолустен; чуть не керженский наш С. Лежит в низине, у плоских берегов плоского, громадного, почти безбрежного озера.
Облака, грустные и нежные, жемчужные, затягивали безветренное небо. Их тонкая тень падала на озеро. Мне вспомнилась итальянская Мантуя, родина Вергилия, такой же сырой, плоский городок среди безбрежных озер. Но великий Р-в серее, холоднее и, главное, строже. Строже.
Пили чай у Деевых, которые и отвезли нас на вокзал. Решаем ехать в Петербург послезавтра, в три часа дня, а завтра дали слово обедать у баронов, с которыми возвращаемся в X.
У нас в гостинице – письмо от губернатора: зовет обедать завтра. А мы обещали Z! А к губернатору завтра вечером должен приехать, из Р. на пароходе, один из популярнейших священников, о. Иаков, с которым нам – мне – очень хотелось бы познакомиться!
Ну, посмотрим, как выйдет.
2 июля
Обедаем у баронов, в собственном их «домике». Тут же и губернатор, успевший утром съездить в Р-ск и вернуться. После обеда губернатор спросил:
– Не будет ли вам интересно видеть о. Иакова? Я ожидаю его часам к одиннадцати вечера, у себя.
Мы очень довольны. Губернатор уезжает раньше, мы отправляемся к нему часов в десять.
Еще никого. Только полицмейстер. У подъезда – губернаторские и полицмейстерские лошади, чтобы ехать на пристань, когда дадут знать по телефону, что пароход о. Иакова подходит.
Ждем, пьем чай.
Губернатор показывал мне интересный шкаф с масонскими одеждами и знаками, – остались от деда. Затем – громадную книгу автографов. Есть Екатерина, Петр I. Очень любопытны неизвестные письма Тургенева.
О. Иакова мы не дождались. Он приехал, говорят, уже в два часа и ночевал на пароходе. Так и не увидим?
3 июля. Среда (день нашего отъезда)
Утром (мы еще спали) заезжал губернатор и написал на одной из оставленных карточек: «о. Иаков служит в церкви Св. Духа. К 11 кончит. Лошади через пять минут будут у вас».
Я, конечно, в восторге, поеду непременно, – но спутник мой, с утра расстроенный перспективой нашего возвращения в Петербург, капризничает.
– Нет, нет, я не поеду. Только усталость. В сущности – это абсолютно неинтересно.
Уговариваю. Мой спутник насмешливо протестует:
– Что же, ты хочешь «в выдающемся роде помолиться?». Побеждаю, однако, и Лескова. Выбираемся – уже без четверти одиннадцать. День хороший, ясный, безветренный, не очень жаркий.
У церкви Св. Духа – ограда с зеленой поляной и высокими деревьями. Не перед папертью (главный вход с улицы), а сбоку, у ограды, на улице, толпа. Толпа невероятная – море народа. Множество изнемогающих, бессильных полицейских. Нас, однако, трое, с усилиями, провели вперед. Шло причастие детей.
Губернатор сказал мне тихо:
– Видите о. Иакова? Теперь детей, а то больших причащал, студенты были.
Дети плакали и смеялись. Некоторые казались важными и тихо довольными. Лицо у о. Иакова – розовое, издали молодое, деловитое. Движения не медленные.
Когда обедня уже совсем кончилась, губернатор, мы и вице-губернатор протолкались к выходу, на улицу, потом взяли вправо, по ограде и вошли в ограду (народ туда старались не пустить) и подошли к боковым дверям, церкви.
Полиция, как могла, удерживала тихо и властно ломившуюся в ограду толпу; кое-кто, однако, проломился.
Вот и поляна, и боковые двери. Ждем. Сейчас выйдет о. Иаков. Он поедет с губернатором сначала в приют, потом к старичку, духовскому священнику. Мы с вице-губернатором – всюду за ними.
Ждали не долго. Вышел веселый старичок с розовым лицом и гладкими волосами. Голова непокрытая, ряса бархатная, алая, – чудесная; на груди, мешался с крестами, звезды орденов.
У всего народа в эту минуту, на эту минуту, стала – не одна душа, я думаю, – но одинаковое устремление душ в одну общую точку, тянунье, вытягиванье душ к этой точке. Чрезвычайно непонятное, – но бесспорное явление.
И ничего в этом не было противного, а трогательное, захватывающее равенство, сила – и беспомощность. А он, гладенький, голубоглазый, грубоватый и быстрый старичок, точно и на себя это не брал, – никакой важности и самодовольства. Невинность и привычливость.
Это самое яркое и точное – что и толпа, и он, оба знали (конечно, без сознания) одно: тут не он, сам, важен и нужен, а Кто-то другой, к кому, кажется им, – можно дотянуться сквозь этого бархатного старичка.
Бархатный старичок – самый прозрачный и проницаемый, и все одной волной, с ревом, устремляются в этот просвет из тьмы и холода.
Почему именно он для них самый проницаемый? И на чем это видно? Пытаться определить, понять – можно; решить – вряд ли! но это так. Равность ощущения всех, всей толпы, – лучшее доказательство, что это, для нее, так.
О. Иаков шел быстро, оглядываясь по сторонам. Не дойдя до губернатора, он вдруг, через голову какой-то монашенки, протягивает мне руку и крепко пожимает с веселым «Здравствуйте!», точно встретил старого знакомого. Удивляюсь немного, но так же весело отвечаю на приветствие.
За о. Иаковом шел старенький белобородый духовской батюшка, которого мы раньше знали. Стены народа, пробравшегося за ограду, грозно сдвигались. Кто-то подходил, подбегал, подкатывался, с какими-то невнятными, тихими звуками, порывался вперед, потом тем же движением назад. Подвинулась женщина, вся средняя, не «баба» и не «дама», вся серовато-желтоватая от серединности во всем – в одежде, в лице, в годах. И шляпка (на ней шляпка) тоже условная, серединная. В эту женщину точно пенка толпы воплотилась.
Она подошла со стоном устремления и вдруг дернулась вниз – на колени. Это была одна секунда. О. Иаков молча и ровно отстранил ее, оттолкнул за шею (она уже тогда поднялась) с грубою лаской – или с ласковой грубостью. Мы двигались к воротам, а народ так и приливал, так и заливал гладковолосого старичка неудержимо, – точно вода, крутясь и урча, устремляется в одно узкое отверстие.
За каретой о. Иакова ехали мы, за нами вице-губернатор. Были вместе в приюте, потом поехали к духовскому священнику.
Везде, на лестнице, в зальце, в крошечной «гостиной», – стены народа; но это еще «избранные», умолившие «матушку» позволить им постоять у сторонки.
В гостиной у печки – закуска, вино. Рядом с печкой – диван, на который и сел, за овальный столик, о. Иаков. Направо от него сидели губернатор и вице-губернатор, мы – как раз против о. Иакова. Кроме нас пяти за этим овальным столом не сидел никто; кресло по левую руку от о. Иакова занималось попеременно различными людьми, которые устремлялись ненасытно; добрый духовской батюшка уступал им свое место.
На столе стояло пять тарелок: две с викторией, одна с лесной земляникой, одна с клубникой и одна с морошкой. О. Иаков чрезвычайно обрадовался ягодам:
– Ягодки, ягодки! Вот хорошо в летний день! Я и чай забуду с ними. Первую зрелую ягодку вижу нынче!
Пожилая, тающая попадья, подходя, все клала ему, и он ел. И сам клал, и все ел. Не то он веселенький, не то пьяненький, и все одинаковый, живой – и без «самости». Но и без «разумения», хорошо, если «без ответа»…
На кресло села древняя старуха, в древней черной шляпе. Посидела, потряслась.
– Ну, прощай, батюшка. Пойду я. Не можется мне.
– Прощай, мать. Давай тебе Бог. Всего тебе хорошего. И царство тебе небесное.
– Хвораю я все, о. Иаков.
– Ну, мать, и покой нужен. И покой нужен.
На кресло сел бравый генерал и стал объяснять, что он церковь задумал строить, сам сборщиком, просит благословения.
– Церковь? Что ж, я вам денег пожертвую. Это очень хорошо, что такой почтенный генерал…
Вышел с ним, пожертвовал, вернулся.
Опять сидим. Губернатор старается навести разговор на близко интересующие нас темы, на Толстого, на религиозное движение в Петербурге, – напрасно. О. Иакову это не нужно.
И чувствуется, войди он в это, начни рассуждать, размышлять, судить или писать об этом, – он изменит себе, утратит свое сияние, слова его – будут общечеловеческими словами с общими всеми ошибками и промахами, быть может, еще худшими, чем у многих. А так – он весь светится, – и грубо и блистающе, своими земляничками, пурпуром рясы, голубыми, – как небеса утром, – глазами, и свежими – и пьяными. И весь он – подлинный. Подлинно проницаемый, – хотя бы лишь для «старого и малого», – чтобы приблизиться к Вечному. Даже особенно «православия» тут у него не чувствуется, православного рабьего «смирения и отречения», так же, как и католической хитрости и сентиментального экстаза.
Губернатор спросил о каком-то письме из Парижа, где его просили помолиться о болящей: выздоровела ли? О. Иаков вскинул на него удивленно-веселые глаза:
– А как же? Конечно. Как же по молитве-то не дастся? Точно мог быть тут для о. Иакова вопрос.
– Все со страданием идут к вам, батюшка! – продолжает губернатор.
Мне как-то не хочется, чтобы радость о. Иакова была только для страдания, и я говорю:
– А с радостью разве нейдут, о. Иаков? Разве в радости Бог не нужен?
– Да… И с радостью много… И в радости нужен… – сказал о. Иаков, но мне показалось, что в голосе у него на этот раз была рассеянная неуверенность.
Подошел, трясясь, купец, громадный, в чесунчовом пиджаке, с бледным большим лицом. Он тянулся из-за меня, через стол, к о. Иакову и лепетал: «Хоть на минуточку, на минуточку заезжайте, – при смерти ведь…»
О. Иаков, помолчав, сказал:
– Да у меня и даров с собой нет.
– Хоть проститься с вами, ну так, так… – молил купец. Но купца оттеснила худенькая старушенция. Залепетала:
«…молодая женщина… Давно больна… А теперь вот ослепла… Батюшка, нельзя ли, чтоб прозрела?»
О. Иаков половины не слышит, – он туг на ухо. Старушенция все скрипит, умоляя о прозрении. О. Иаков, наконец, спросил:
– Как имя?
– Екатерина. Чтобы прозрела, батюшка, нельзя ли? Молчит. Помолчала и старушонка, – и вдруг новое:
– Батюшка! Дай ты мне хоть две ягодки из твоих ручек. Из ручек твоих!
О. Иаков словно не слышит. Потом вдруг сгреб рукой из тарелки целую пригоршню викторий и сунул через стол. Старуха вся дрогнула, двумя руками принимая ягоды.
– Батюшка! Как нектар буду хранить! Как нектар! Еще подходили, письма ему передавали, шептали, плакали, рассказывали, умоляли… Наконец, о. Иаков весело сказал губернатору:
– Время-то нам дорого, Александр Андреевич! Нам ведь еще к Сандулееву…
О. Иаков нынче же уезжал из X., по Волге, вверх. Поднялись. Хозяин и хозяйка стали упрашивать:
– Не закусили ничего, о. Иаков! Вот закусочка приготовлена.
– Закусочка? Ну что ж, я, вот, мадерцы разве. Мадерца-то есть?
Опять с веселой радостью. Ему точно стихийно нужна и эта вечноустремленная к нему толпа, и мадерца, и ягодки, и губернатор для вечного легкого опьянения. Удивительно ровен ко всем; никакого отличия – и, может быть, никакого внимания к человеку… Это трудно объясняется.
Нам пора было домой. О. Иаков, все забыв, и точно очнувшись на мгновенье, стал вглядываться в нас и в вице-губернатора, как в незнакомых. Потом припомнил, улыбнулся, сказал что-то приветливое, махнув рукой. Все у него безотчетно. И как хорошо, что он нас не замечает, не видит, не слышит ни наших вопросов, не знает и не узнает никогда наших мучительных и сложных исканий, недоумений и болей – наших и близкой нам части народа, тех «немоляев», которые всегда молятся, всегда ищут и ждут, и страдают, думая о правде, думая о Боге, думая о вере и жизни! Блажен о. Иаков, пока он светел и прост, как просты те дети, которые идут к нему со своим страданием! «Если обратитесь и не будете, как дети…» А им не нужно, нельзя «обратиться»: они и так дети. И так – кротки, как голуби… Но только не «мудры, как змеи» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Опять поднялась властная, единосильная толпа. В темных сенях мы, поспешая за кителем губернатора, натолкнулись на старушенцию с «нектаром», она завизжала, думая, что кто-то посягает на ее сокровище. Вот мы и на крыльце. Неудержимая волна, точно волна слез, опять тихо накрыла о. Иакова. Чуть мелькает его гладкая, желтоватая головка, пурпурный рукав… Мы простились с нашим милым губернатором и уехали.
Народ кинулся за каретой. Самое главное (навсегда для всех главное) – просвет их исчезал. Надо было за ним, к нему – безразумно!
Вагон, звонки… На вокзале простились с Z. Говорили торопясь, об о. Иакове. Какое странное, полугрустное, полусветлое чувство увожу я из X., в этот последний день нашего путешествия! Да, и «это» – то же самое. Корень один. Это одно людям нужно и теперь, – как всегда было и будет нужно. Всем… То – и не то. Не то, потому что нужно уже не темное, безразумное, а расширенное, усветленное, преображенное.
И преображению – время. Исполняются сроки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 июля
В Петербурге. Такой же пыльный, серый, холодноватый и бледный день, в какой мы уезжали. Ничто не изменилось, – и это нам кажется странным, – потому что изменились мы. Мы знаем теперь, что есть где-то живые люди, для которых нужно, важно то, что нам важно, и, главное, важно – так, как нам. В душе теперь больше бодрости, есть надежда. Пусть петербургский день пылен и лица прохожих унылы. Не все и здесь пыльные и усталые. Хочу верить…
Звонок. Кто это может быть? Никто не знает, что мы вернулись.
Это Ф. Он должен был уехать – не уехал. Ему первому рассказываем мы о . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Тут кончается последний листок моей записной книжки. Мне хотелось воспроизвести ее целиком, не прибавив и, насколько от меня зависело, не убавив ни одного слова. Но этого было нельзя… И долго еще будет нельзя.
Со времени нашего путешествия прошли месяцы, но ни мы не забыли ни одного из встреченных «живых людей», ни они нас.
Из далекого Заволжья получаем мы порою серые пакеты с кривыми строчками: «…и кланяемся мы вам, и вся наша братия… И еще хотели мы вас спросить об Откровении святого Иоанна, о такой-то главе, потому что мы недоразумеваем. А будете письма писать, то пишите заказным… А Малицкий у нас теперь батюшкой в селе Пролаз… И одержал он книги ваши, что вы нам прислали, не отдавал месяца с полтора… И просим вас, извините, что письмо это написано „грубо…“ А еще видим мы, что вы все вперед простираетесь…»
Пишет и Дмитрий Иванович, столп «духовного согласия», упрямо стараясь подвести все под дух. Спорим мы с ним, не ища «нарочных», «народных» слов, так же как не ищем их с Василием Ивановичем. Думаю, и всякий культурный человек не мог бы говорить с ним иначе, как с равным. Увы, много варварства нашел бы в Петербурге Василий Иванович, вздумай он приехать сюда! Пыльное облако невежества и хамства повисло над нами. В пыли затерялось понятие о том, что важно и что не важно, что нужно и не нужно… О том – что Главное…
«И Дух, и невеста говорят – прииди…»
Сноски
1
пенсне (фр.).
2
Общее для всей Н-ской губ. упорное название Петербурга. (Примеч. автора.)
3
меню (фр.).
4
хорошенькая, но неказистая (фр.).