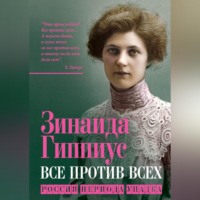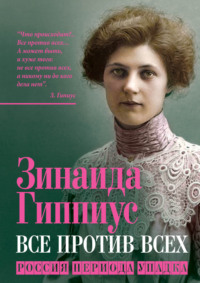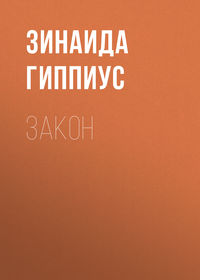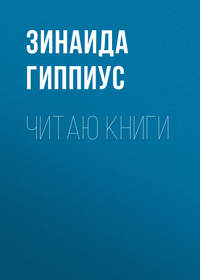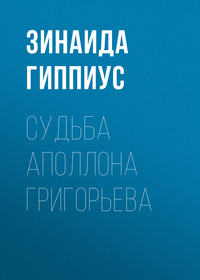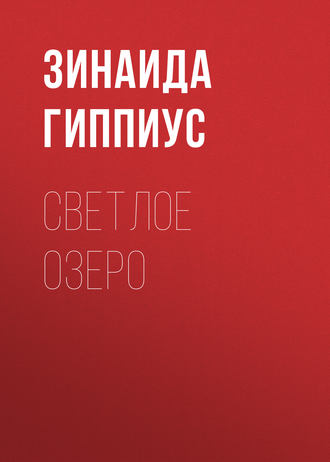 полная версия
полная версияСветлое озеро
У Большакова, где нас рассчитывал устроить «дядька», «квартирки» не оказалось. Кое-как отыскали крестьянскую «чистую», два оконца, две лавки, стол. Дверь – наклоняйся. Хозяйка – благообразная, моложавая Татьянушка. Сноха ее, Аннушка, с ребенком на руках, смотрит совсем девочкой.
Изба – поднятая, то есть как бы в два этажа; но этаж собственно один, второй: внизу темный двор, устланый соломой. Там и скот. Это – обычное устройство всех изб в Н-ской губернии.
Принесли нам ковш холодной воды умыться и тотчас поставили «самоварчик». Теплый ситный хлеб – и неизменная «земляника» (леденцы).
Не успели мы пообчиститься – как явился о. Никодим, свежий, особенно бодрый и ярый в предвкушении битвы. Объявил, что они остановились в Старостиной избе и что на озеро надо уже скоро идти, часам к четырем.
У старосты отцы устроились неважно: такая же «чистая» – только хозяева с детьми за занавеской. У нас, по крайней мере, дверь. Попили и у старосты чайку – двинулись на озеро. О. Никодим торопил, все беспокоился о своем сундуке с книгами: доставлен ли.
Идем на озеро пешком. Небо еще помутнело, ветер – редкими порывами, пыль. О. Никодим шагал бодро, определенно ставя ноги, ярость – добродушная, – видимо, у него скапливалась.
Я – с о. Никодимом впереди, за нами о. Анемподист с моим спутником и с Малицким, да еще с одним священником, местным: не то рябой, не то прыщеватый, молчаливый. Прошли всю безмерно длинную улицу села, пересекли почтовый тракт и повернули налево, на проселочную дорогу, ведущую к левому краю озера и на заозерные холмы.
Проселочная дорога – плоская, и только когда блеснул направо край озера – перед нами оказался крутой подъем первого холма. У самого подъема, но внизу, раскинулась тихая ярмарка (всего на один вечер здесь; утром следующего дня она переносится в село Владимирское, и там уже делается обычной, шумливой, пьяной и грязной). В шалашах у озера, здесь, продают только пряники, жамки и деревянные изделия из города С. Больше ничего. Ни шума, ни крика, хотя народу уже порядочно, и собирается все больше и больше. Толпа нам, с непривычки, кажется странной: не только ни одного «интеллигента», но даже ни одного «под интеллигента»; не видно ни «спинжаков», ни «городских платьев»: сарафаны, сарафаны, поддевки. Ни грубого возгласа, – о гармонике даже подумать дико.
Самые берега озера – топкие; у воды вьется кружная тропа верст на пять, может быть, больше; она опоясывает весь овал озера, порой исчезая в кустах. Озеро больше, длиннее, чем нам казалось издали. Отсюда, от левого края, едва можно разглядеть противоположный конец. Кое-где, у воды, уже теперь мелькают желтые огоньки и медленно движутся. Нам объяснили, что, если обойти озеро в эту ночь, со свечою в руке, по кружной тропе десять раз – это зачтется как путешествие на Афон, двадцать раз – в Иерусалим.
Поднимаемся от шалашей наверх, на первый холм. Как круто! Наверху – православная часовня, там что-то читают, горят огни свечей «ярого» воска, желтого-прежелтого, душистого. Рядом с часовней – деревянная эстрада, широкая, с перилами вокруг. На ней тотчас же стал устраиваться о. Никодим. «Сундучок» его уже был внесен на эстраду и занял половину ее, так как оказался не сундучком, а сундучищем. Малицкий, человек крупный и длинный, присев на него, не доставал ногами до полу. Сундук полон книгами, громадными, в кожаных переплетах; тут и Библии на всех языках, и Кормчие, и святые отцы всех времен… Запаслив о. Никодим! На борьбу идет не без оружия.
Народ сразу задвигался, затеснил и сомкнулся около решетки. Но мы пока оставили о. Никодима и с о. Анемподистом пошли вдоль озера, по лесу, по одной из бесчисленных тропинок, крутых, спускающихся вниз, лезущих на гору. Ветер то бил и крутил, подергивая озеро мутной рябью, – то опять тихо.
Кучки, кучки народа. В прогалине – слепцы с чашками, старые и молодые. Поют, не останавливаясь ни на минуту, длинно-однообразно. Послушали – прошли. Опять наверх, дальше в лес. Между высокими деревьями, в зеленой полутьме, – огни мелькают. Стали попадаться женщины в темных сарафанах, платки почти у всех – «вроспуск» (два угла на спине).
Налево, под густой кущей, – первое большое молебствие: иконы прикреплены к деревьям на полотнах, огни, читает монашка-староверка, поют, негромко, в нос, точно жужжат.
Дальше в лесу – другие огни, другая кучка, опять молятся, опять так же поют, про себя жужжат.
Прошли мимо. А вот, направо, не молятся, а стоят кружком, плотно-преплотно. За народом ничего не видать.
С трудом протеснились. Внутри – оказался кружок сидящий – больше старики, двое или трое совсем древние, с коричневыми лысинами в складках, с котомками серыми и высокими посохами. Издалека. Кивают головами. Не говорят. Один, в середине, медленно читает по большой книге с застежками.
О. Анемподист тотчас же обратился к одному, видно, знакомому мужику, средних лет, с тонкими, острыми чертами. Нос такой тонкий, что даже с кривизной.
– Ульян, а Ульян! Скажи-ка ты мне…
Спросил что-то об Антихристе и о каком-то святом, очевидно желая завязать разговор, который мог бы показать «петербургским гостям» старовера сразу с интересной стороны.
Чтение тотчас же прекратилось. Ульян начал отвечать яростно, вынув из-за пазухи синенькую тетрадку. О. Анемподист, кажется, не ожидал такого взрыва.
– Да пойдем наверх, Ульян, там поговорим. Там книги есть.
– А, наверх! Чего наверх! Нет, ты слушай, что тебе читают!
– Я слушаю, Ульян, – кротко возражал ему о. Анемподист. – А потом пойдем, право!
– Слушай, говорят тебе! А смеяться нечему, вот что!
– Да мы и не смеемся. Никто не смеется. Нетерпеливый спутник мой вмешался:
– Мы только знать хотим, что ты думаешь.
– Знать! – разъярился Ульян. – Вот и слушайте без смехов, слушайте, нечестивцы, слово Божие!
Спутник мой догадался, что его принимают за более или менее официального представителя «никонианской» церкви.
– Да я, голубчик, не миссионер вовсе. Я сам ничего не знаю.
Ульян взглянул удивленно, но тотчас же упрямо крикнул:
– Все одно, сказано слушай – и слушай!
О. Анемподист, с той же кротостью, начал свое:
– Пойдем на гору, там книги. Ульян, а Ульян!
– На гору, да на гору! Вот они книги-то и здесь! А ты кто? Ты есть лжепророк, и крест на тебе – антихристов!
Ульян кричал, указывая пальцем на крест. О. Анемподист, не раздражаясь нисколько, с привычной кроткой безнадежностью произнес:
– Ты погоди обличать, Ульян. Право, погоди. Пройдем лучше на гору.
Толпа слегка загудела, неодобрительно. Кто-то сказал:
– И то погодил бы обличать-то.
Среди толпы было душно, жарко, морило, как в церкви, – и это на открытом воздухе, в свежий, ветреный вечер. Все отирали пот. Завязался бесконечный и неинтересный спор, о. Анемподист повторял кротко время от времени: «Пойдем на гору. Ульян! А Ульян»! Ульян же горячился и «обличал».
На первый раз «дух народный» нас сморил, и мы вдвоем отошли дальше, в лес.
Кучки людей увеличивались и умножались. В каждом кругу сидели с книгами. Ходить приходилось по тропам то вверх, то вниз, круто; кое-где тропа была такая скользкая и крутая, что мы чуть не падали и опирались на плечи мужиков, с добродушной радостью помогавших нам. За нами некоторые уже следовали серьезно, без любопытства, но со вниманием присматриваясь к нам.
Один, молодой, вдруг подошел от сторонки и сказал таинственно:
– А что, барин, я тебя спросить хотел.
– Что? спрашивай.
– Правда ли, говорят у нас, велено в Питинбурх[2] совет о вере собрать?
На возражения покачал недоверчиво головой и отошел.
Мы сначала пытались садиться под деревья, отдыхать, – но стоило присесть – тотчас собирался народ и теснился ожидательно, с тишиной и вежливостью. Один какой-то начал несмело, что вот, мол, говорят все о перстах да о поклонах, а что говорить, если «тут» (указал на сердце) ничего нет.
Это меня заинтересовало.
– А ты сам по какой вере?
Ответил помолчав, нерешительно и недоверчиво:
– Мы-то? Мы… по православной…
Спутник мой оживленно начал с ним рассуждать; вдруг откуда-то явился о. Никодим, точно из земли вырос. «На горе», то есть на эстраде, очевидно, был перерыв.
– Вы тут? Ну, а что вы тут?
– Да вот, рассуждаем, о. Никодим. Путаемся понемножку.
О. Никодим поглядел-поглядел на нашего собеседника – и вдруг бросился на него, хотя тот явно не походил на раскольника, и у меня уже было подозрение, что это – «немоляк».
– Ты, говоришь, православный? – уцепился о. Никодим со своей добродушнейшей яростью. – Ну хорошо, хорошо. А давно ль ты, православный, у исповеди-то был?
– Да мы в россейской… Как, значит, отцы – так и мы… А мы тут о своем говорили с господами…
– Нет, на исповеди-то когда был?
– Мы-то? Да ну в посту, скажем, был…
Спутник мой вмешался в разговор, чуя неладное. О. Никодим добродушно-победительно отошел. Со староверами ему интереснее говорить. А с эдаким – что!
Мы очутились на другом косогоре. Толпа немедленно завила нас в круг. О. Никодима не было, но зато под деревом, полулежа, расположился неизвестно откуда взявшийся о. Анемподист с Библией в руках.
Рядом сидел рыжеватый, лысоватый, худой мужик, лицо спокойное, упрямое, не очень доброе.
Мы спросили:
– Кончили рассуждать с Ульяном, о. Анемподист? Верно, о. Никодиму его на горе сдали. А где же «немоляи»?
О. Анемподист улыбнулся.
– Да вот они, перед вами. Вот Дмитрий Иванович, – и он указал на рыжего мужика. – Скажи-ка мне, Дмитрий Иванович, как ты толкуешь «в начале бе Слово»? Скажи-ка, я забыл, право забыл.
О. Анемподист (которого, впрочем, все очень любили) слишком явно хотел «демонстрировать» перед нами «немоляев». Дмитрий Иванович это почувствовал и отвечал крайне неохотно, недоверчиво, опасаясь нас. О. Анемподист известен, кроток и прост, – а это что за люди? Новые миссионеры прибыли? Уже слышно было так о нас в народе.
Однако понемногу Дмитрий Иванович разговорился. Выяснилось, что «их согласие», то есть кружок Дмитрия Ивановича (небольшой) – ничего не признает, кроме духа, принимая слова Писания иносказательно. Такое «согласие» довольно обычно, известно, – известны и возражения, которые мог представить о. Анемподист. Дмитрий Иванович говорил тонко, неглупо и упрямо. Всю Библию знает наизусть, хотя неграмотен. Считается столпом своего «согласия».
В круге сидело много и женщин. Все сидели тесно и близко, все сближаясь. Становилось опять душно. Внизу, у воды, ярче замелькали огоньки, богомольцы обходили озеро, шли один за другим, и озеро опоясалось подвижной, сверкающей цепочкой.
– Пройдем в лес, отдохнем немного одни, – сказал мне тихо мой спутник. – Потом поговорим.
Кое-как прошли через народ, дальше, дальше вглубь.
Странный лес, странные холмы, странные люди, странный вечер! Как будто не та земля, на которой стоит Петербург с его газетными интересами, либералами, чиновниками, дачами, выборами, дамами-благотворительницами, бесчисленными изданиями Максимов Горьких, жгучими волнениями по поводу кафешантанной певицы Вяльцевой, со всеми его тараканьими огорчениями и зловонно-тупыми веселостями. Не копошатся ли так называемые «культурные» люди в низкой яме, которая все оседает под их тяжестью, – и не здесь ли, на этих холмах, лежит зерно (только зерно), – откуда может вырасти истинная культура? Сюда пришли тысячи народа, из дальних мест, пешком, – только для того, чтобы говорить «о вере». Это для них серьезное, это для них важное, – может быть, самое важное в жизни. Важно, надо идти, надо говорить, надо слушать. И пришли, со своими мыслями, со своими книгами, уйдут – целый год будут жить и думать то и тем, что унесут отсюда. И без усилий, а просто потому, что для всего их существа это – важно. И так их много – и для всех один вопрос: как верить в Бога? Грубые и тонкие, злые и добрые, упрямые и кроткие, неподвижные и нетерпеливо-алчущие, новые и старые – все соединены одним: как надо верить? Где правда? Как молиться? Решить это, а там уже все будет ясно. Это – исток. Самое главное.
Кучки, кучки народа. Говорят, кричат, спорят. Слышно: «Лжеученье!», «Анафема!», «А преподобный говорит…», «А в XVII стихе сказано…» Кто-то надрывается тонко: «Сердце-то! Про сердце-то забыли! Бог любы есть…» – Изнемогшие спят на траве, с котомками под головами. Где не спорят – молятся иконам на деревьях, на полотнах, теплят свечи, поют – жужжат. Подальше, где поглуше, тоже молятся, по трое, иногда по двое: мать да дочь. Принесли с собой икону, повесили на ствол, читают на коленях, кладут поклоны. Это разных толков староверы, больше беспоповцы. Огоньки, где поглуше, ярче освещают нижнюю листву берез. Внизу, на тропе, у воды, – источник, бегущий с холма. Над ним крошечная часовенка, точно кукольный домик, игрушечная церковка. И тут огни, монашки читают по старой книге, молятся.
Мы отошли совсем в лес, далеко, и легли отдохнуть на траву, одни.
Но скоро нас опять потянуло к людям.
Окольной дорогой, через ручьи, мы как-то вышли сразу к часовне и эстраде, где, окруженный толпой народа, сражался о. Никодим, уже полуохрипший. С усилием мы взобрались к нему и присели на сундук с книгами.
Народ так теснился, что собеседник о. Никодима поднялся с другой стороны на приступочку и говорил, держась за перила.
Умное, довольно красивое и тонкое лицо, удивительно насмешливое. Говорит не сердясь, спокойно, и все где-то у него бродит неуловимая усмешка.
– Ты, знашь, о. Никодим, подозрительный, а я ничего, знашь, я тебя спросить, знашь, хочу, потому у меня сомнения разные, так вот ты мне, знашь, разъясни, а я, знашь, послушаю.
О. Никодим торопливо достает и перелистывает разные книжищи на пюпитре. Торопливо, так же упирая на «о», как и его противник, отвечает:
– Что ж, я этой речью твоей, Иван Евтихиевич, очень доволен, а только вот что скажу тебе…
Иван Евтихиевич спокойно перебивает:
– Да ты, знашь, сумнения мои выслушай вперед, а потом, знашь, и говори, и объясняй.
Долго вел, тонко, осторожно, диалектично, и спросил, наконец, – как это в Евангелии сказано «будьте мудры, как змеи», а у апостола в таком-то стихе тот же змий проклинается, ибо лукав, соблазнил Еву.
О. Никодим внезапно и неожиданно вскипел.
– Ну не есть ли ты лукавый сам и хитрый человек, Иван Евтихиевич! Видишь ты, что вывел! А я тебе скажу…
Начался ярый спор, весьма скоро принявший схоластический характер. Мы отошли.
На одной полянке сидел среди народа молодой юродивый и мычал. При нем мать, – все гладила его по руке. Говорили мы то с тем, то с другим, присаживаться не решались. Совсем стемнело. Огоньки удвоились, учетверились. Мы стали спускаться вниз кое с кем из народа, как вдруг к спутнику моему подошел молодой мужик и тронул его за рукав.
– Барин! Пойдем на ту гору. С тобой народ желает поговорить.
Под деревом густая толпа, громадная, и все увеличивающаяся. Мы прошли и сели в середину. У самого дерева сидели старики. Один рыжеватый, с лысиной, Иван Игнатьевич. Подальше – молодые парни, бабы, девки. Тотчас же стало от тесноты душно, сперто, – но мы уже привыкли.
– О чем, братцы, вы хотели поговорить? – спросил мой спутник.
Иван Игнатьевич, плотный рыжеватый старик, тотчас же степенно ответил:
– Да вот, о вере. Слышно, ты не миссионер. Думаем спросить тебя, как полагаешь, где правду-то искать? И какой, слышь, самый-то первый вопрос, самый-то важный?
Спутник мой сказал, что, по его разумению, самое важное – это чтобы все люди соединились в одну веру; говорил о церкви «истинной».
Беседа продолжалась, заговорили о конце мира, о втором пришествии. Радуются, понимают с полуслова наш неумелый, метафизический, книжный язык, помогают нам, переводят на свой, простой. Обо всем, о чем мы думали, читали, печалились, – думали и они у себя, в лесу, и, может быть, глубже и серьезнее, чем мы. Но им легче, их много, они вместе, – а мы, немногие, живем среди толпы, которая встречает всякую мысль о Боге грязной усмешкой, подозрением в ненормальности или… даже нечестности. И мы стыдимся нашей мысли даже здесь – но, видя, что они не боятся, не стыдятся – становимся смелее – и радуемся.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
– Старик, – говорю я. – А что ты думаешь о словах Спасителя – вот когда Он сказал об Иоанне, что «Я хочу, чтоб он пребыл, пока прииду»?
Иван Игнатьевич замялся, другой перебил.
– Ну, не имеет он мнения. Говори скорей, что знаешь.
Тут мы опять стали говорить о грядущей церкви Иоан-новой, Апокалиптической, и читали Откровение: «Дух и Невеста говорят: прииди»…
Удивительная шла беседа. Народ все прибывал, теснился, сжимал круг. Ветер стих, темное озеро с движущимся поясом огней лежало покойное, темное – и светлое, как черный бриллиант. Казалось, еще немного – и услышим мы – все сразу, как один человек, – тихие звоны храмов святого града, скользящие по воде. Увидим в плотном зеркале озера вместо черных холмов – отражение золотых глав, чуть уловимое мерцанье там, где на воды падает свет от свечей. Они, люди, говорившие с нами, самые далекие нам – были самые близкие. Мы сидели вместе, на одной земле, различные во всем: в обычаях, в преданиях, в истории, в одежде, в языке, в жизни, – и уже никто не замечал различия; у нас была одна сущность, одно важное для нас и для них. Оказалось одно, – потому что ведь ни мы не приноравливались к ним, ни они к нам . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Нам вспомнились «интеллигенты», идущие «к меньшим братьям», занятые тем, чтобы одеться «как они», есть «как они», рубить дрова «как они», и верящие, что это путь к «слиянью». Думаю, что думают о «духе» – думают они о «брюхе» народа прежде всего и влечет их не любовь, а жалость. Жалость и любовь разделены непереходной пропастью. Они – враги.
А наши писатели «народные» – Успенский, Короленко, Решетников, Златовратский и другие – не о хлебе ли прежде всего и только они думали, не страдали ли жалостью, не будили ли жалость в читателях?
Скажут: какой же это «народ» здесь, на озере? Маленькая кучка начетчиков и «сектантов». Годы нужны, чтоб «изучать народ».
– Десяти жизней мало, чтобы «изучить народ» – скажу я. И пусть это не «народ». Но что же это такое? Ведь и не «не народ». Часть народа, во всяком случае. Часть, обращенная к нам той единой точкой, в которой возможно соприкосновение всех живых людей, без различия, – возможно истинное «слияние». И эта одна точка – все. Исток всего. Жива она – все остальное приложится, может приложиться. Так освещается вся темная комната, когда конец тонкой проволоки прикасается к другому узкому концу. А что знают о духе и всего молчаливого народа жалостливые, утомленные «дарами культуры» люди, идущие устраивать столовые, кормить – только кормить? Не мало ли этого? Народ ест, молчит – и глядит волком. «Накормите сначала»… Кормят. Или не кормят. Голодный голоден. И сытый вскоре опять голоден. И опять кормят сначала. Кормят или не кормят – народ все там же, все такой же чуждый, все так же молчит. И не выходит никакого слияния, точно глухие подходят к глухим.
Поздно, ночь темнеет, чернеет. Идем, наконец, вниз, сопровождаемые полуневидной толпой.
Подошла красивая, статная баба с ребенком на руках (племянником) – сноха Ивана Игнатьевича.
– Спасибо вам, спасибо. Не поедете ли к нам? Село наше двадцать верст будет от города. Мужа-то моего нету здесь, а уж так он о вере говорить любит! Пожалуйте к нам, господа! Поговорите с мужем-то, с Василием Ивановичем!
Спутник мой в темноте рассуждал громко:
– Да какие они «немоляи»! Ведь они только о молитве и говорят! Что-то странное!
– Хорошо, ну а Дмитрий Иванович? Чей-то голос из мрака возразил:
– А мы не Дмитрия Иванычева согласия. Мы следующего. Другой голос:
– Их молоканами тоже зовут.
– Да как сказать? – продолжал первый. – Всяко зовут. А все неправильно. Миссионеры зовут.
Простившись, дошли мы до первого холма и сели на краю подождать все еще сражавшегося о. Никодима. Кое-кто и тут к нам подсел. Парень, что спрашивал насчет совета о вере, три робких мужика и какой-то мещанинишко. Не могли остановиться, опять начали что-то о Царствии Божием, о льве и агнце, о вельможе и мужике. Огни все мелькали у воды, и служения не прекращались, хотя было темно, как в чуть приоткрытом погребе.
Наконец мы увидели спускающегося с холма о. Никодима и устремились к нему. Шел за нами и народ. О. Никодим объявил, что отправляется домой, на ночевку, устал, охрип, а что о. Анемподист еще сражается.
– Завтра утром опять на озеро пойду. Кой-кто из народа еще будут. Недоговорил.
Ко мне подошел мещанин.
– Позвольте мне карточку с адресом. Я письмо вам должен писать.
– Поди вон к тому барину, он тебе даст.
Мещанин шел с моим спутником до села и все время исповедовался, как он троих детей своих засек, работника заморозил, пил, вовсе все забыл, – а нынче, вот, потянуло и потянуло на Святое озеро молиться, и очень он мучится.
О. Никодим всю дорогу рассказывал мне о хитрости и лукавстве Ивана Евтихиевича – охрипшим басом, упирая на «о».
Вернулись в нашу избу. Голова уже не болела, но туман какой-то стоял перед глазами, – так неожиданно было все, что было.
Завтра уезжать? Конец Светлому озеру?
Лошадей мы заказали к десяти утра. Усталость, вдруг сказавшаяся, заставила нас тотчас же лечь. Татьянушка притащила нам сенники и «самоварчик», но не было сил пить чай. Сон тоже не приходил. Мы долго еще переговаривались.
Завтра уезжать? Конец Светлому озеру?
28 июня
С пяти часов опять не спим. Деревенская праздничная жизнь кругом. Голос Татьянушки:
– Не выдадите ли нам самоварчик? Выдали. Опять лежим.
Наконец, в восемь – поднялись кое-как. Едва оделись – Татьянушка с самоварчиком и с неожиданным известием:
– А вас там мужики дожидаются. Давно, часа три дожидаются. Они уж и чайку у нас попили. С озера мужики, много.
Не конец Светлому озеру! Мы ушли – оно само к нам пришло.
– Зови всех! – кричу я Татьянушке. И вмиг изба наша наполнилась.
Народ сидел на лавках, на стульях, на окнах и, главным образом, на полу.
Оказался тут и Дмитрий Иванович со своим духовным «толком», и Иван Игнатьевич, и целая туча других, известных и неизвестных.
«Согласие» Дмитрия Ивановича сидело отдельно, небольшой кучкой, поодаль: Иван Игнатьевич со своими – поближе.
Разговор был любопытнее вчерашнего.
«Согласие» Ивана Игнатьевича – не молоканское, не духоборческое, не немолякское: сами они называют себя «ищущими». Были сначала с Дмитрием Иванычем, но от него отошли. Признают все догматы, Писание принимают не духовно только, но исторически и реально, во Христа верят, как в Богочеловека. Признают «тайность» и думают, что для спасения нужна Евхаристия.
Мы спрашиваем, почему же, если они все это признают, – не идут они в «Российскую» церковь?
Но Иван Игнатьевич объясняет, – длинно, спокойно, с полным уважением к «Российской» церкви, – что она кажется им неподвижной, односторонней; священники не так охотно разъясняют некоторые вопросы, кое-чего и вовсе не любят касаться, например, Апокалипсиса, который, хоть и признается книгой боговдохновенной – за церковными службами не читается. Иван Игнатьевич и его «согласие» читают и любят Апокалипсис и много думают о грядущем.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
– Хорошо, – говорит мой спутник, – но если вы признаете, что без Евхаристии нельзя спастись, то как же быть? Ведь почему-нибудь не совершаете вы ее у себя?
– А мы еще не осмеливаемся, – тихо и серьезно отвечал Иван Игнатьевич.
В его серьезности и строгость, и надежда, и правда.
Дмитрия Ивановича я пытаюсь убедить, что в исключительной «духовности» есть демоничность, ибо только «дух», «bociuav», плоти и костей не имеет, вполне «духовен». Упрямый старик. И вся Библия для него лишь «типы». Замечательно, что «духовность» приводит к рационализму. Все «духовные» секты – секты рационалистические.
Кончили разговаривать – без конца, только потому, что уж пора было ехать. Все до последнего слова было неожиданно и хорошо.
Спутник мой рвется в село Ивана Игнатьевича, куда звала нас его сноха. Ну, посмотрим. А пока надо отправляться в город.
Едем назад в С.
«Дядька» наш оказался в самых близких отношениях с семьей Ивана Игнатьевича и всю дорогу рассказывал нам о них, о сыне Василии Ивановиче, о жене его, красивой, статной бабе, с которой мы разговаривали на озере. Особенно хвалил Василия Ивановича.
Поднялся холодный, серый ветер, и точно пылью заволокло небо. Такой силы ветер, что нельзя было глаз открыть.
Кое-как доехали. Ложусь отдохнуть, радуясь моему здешнему дивану. Уже культура. Спутник мой вечером еще заходил к о. Анемподисту.
Они с о. Никодимом, оказывается, вернулись только в девять часов, о. Никодим окончательно потерял голос на озере в это утро. Сражались еще часа 3–4, кучек, говорят, было немного; о. Никодим с раскольниками, о. Анемподист с немоляями, – но с какими? Ведь даже Дмитрий Иванович был все время в нашей избе.