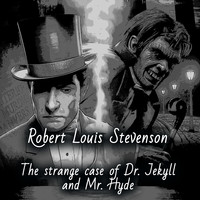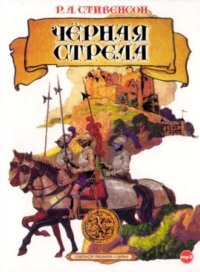полная версия
полная версияСент-Ив
– Право же, все прошло. Теперь я снова вполне оправился, – уверял я, хотя едва мог принудить себя говорить.
– Значит, продолжать? – спросил Чевеникс. – В состоянии ли вы следить за мной?
– Конечно! – ответил я и отер рукавом свое влажное лицо (в это время моей жизни у меня не было носового платка!).
– Если вы уверены, что вы будете в состоянии следить за моими словами, то слушайте меня. Только, – прибавил он с сомнением, – у вас был очень внезапный и острый припадок! Однако если вы говорите, что все прошло, я начну: между вами, пленными, было бы трудно устроить вполне правильную дуэль. Между тем, несмотря на нарушение многих общепринятых форм, несмотря на необыкновенные условия, поединок мог совершиться достаточно честным образом. Вы понимаете меня? Ну, поступите же как джентльмен и солдат.
Рука Чевеникса снова поднялась и покачивалась над моим плечом. Я не выдержал и отшатнулся от него, вскрикнув:
– Только не кладите мне руки на плечо! Я не в силах выносить этого. У меня ревматизм, – поспешно прибавил я, – мое плечо воспалено и очень болит.
Чевеникс снова опустился на прежний стул и спокойно закурил сигару.
– Мне очень жаль, что у вас болит плечо, – наконец проговорил майор. – Не послать ли за доктором?
– Не нужно, – ответил я. – Это – безделица, я привык к боли, она не беспокоит меня; кроме того, я не верю докторам.
– Прекрасно, – заметил майор и стал молча курить.
Все на свете отдал бы я, чтобы только прервать это молчание. Наконец офицер заговорил:
– Ну, мне кажется, я знаю достаточно, полагаю даже, что мне известно решительно все.
– Насчет чего? – смело спросил я.
– Насчет Гогелы, – ответил он.
– Простите, но я не понимаю.
– О, – произнес майор, – этот человек ранен на дуэли и вашей рукой. Я ведь не младенец.
– Без сомнения. Но, мне кажется, вы увлекаетесь теориями.
– Желаете сделать проверку? – спросил Чевеникс. – Доктор недалеко. Если на вашем плече нет открытой раны – я ошибаюсь. Если рана есть… – он помахал рукой. – Но я советую вам подумать, – продолжал Чевеникс. – У этого опыта будет чертовски неприятная сторона для вас, а именно: все то, что осталось бы только между нами двоими, сделается тогда достоянием всех.
– Ну, хорошо, – со смехом произнес я. – Мне кажется, все лучше, нежели медицинский осмотр; яне выношу этой породы людей!
Последние слова Чевеникса сильно успокоили меня, но все же я далеко не чувствовал себя в безопасвости.
Майор курил, посматривая то на пепел своей сигары, то на меня.
– Я сам солдат, – заговорил он, – и в свое время сам пережил нечто подобное, ранив противника. Я не желаю ставить в безвыходное положение кого-нибудь из-за дуэли, хотя она, быть может, и не была необходимостью и совершалась не по всем правилам. В то же время мне крайне нужно знать решительно все, и я желаю, чтобы вы скрепили мои догадки вашим честным словом. В противном случае мне, к моему большому огорчению, придется послать за доктором.
– Я ничего не отрицаю и не утверждаю, – возразил я. – Однако, если вы удовольствуетесь моим заявлением, я вам скажу следующее: даю честное слово джентльмена и солдата, что между нами, пленниками, не произошло ничего такого, что не было бы вполне честно.
– Отлично, – сказал он. – Я только этого и желал. Теперь вы можете идти, Шамдивер.
Когда я подошел к двери, Чевеникс прибавил со смехом:
– Во всяком случае, мне следует извиниться перед вами: я и не подозревал, что подвергаю вас пытке.
В тот же день на наш двор пришел доктор с листом бумаги в руках. По-видимому, ему было очень жарко; он казался рассерженным и, очевидно, не заботился о том, чтобы говорить вежливым образом.
– Эй, – крикнул он, – кто из вас немного знает по-английски? О, – прибавил он, всматриваясь в меня, – вы – как бишь вас зовут – вы пригодитесь мне. Скажите этим молодцам, что тот умирает. Его песня спета, нечего и говорить; я ожидаю, что он умрет к вечеру. Скажите же им, что я не завидую тому из них, кто проколол его. Прежде всего переведите им это.
Я исполнил приказание доктора.
– Теперь, – продолжал маленький человек, – передайте им, что этот Гогель, или как там его зовут, желает повидаться с некоторыми из них перед отправлением на тот свет. Если я правильно понял его, то он стремится обнять своих ближайших друзей, словом, развел там всякую кислятину. Поняли? Вот список, который он написал; лучше всего, прочтите его вслух сами; я не в состоянии выговорить ни одного слога из ваших чертовских фамилий. Услышав свое имя, каждый должен ответить: «здесь» и отойти вот к этой стене.
С самыми разнообразными чувствами в душе прочел я первое имя списка. Мне очень не хотелось смотреть на страшное дело моих рук; при одной мысли об этом все мое существо содрогалось. А как еще Гогела примет меня? Я мог избавиться от этого свидания, пропустив первое имя в списке; доктор ничего не узнал бы, и я не пошел бы к Гогеле. Впоследствии я с удовольствием вспоминал, что, ни на мгновение не останавливаясь на этой мысли, я подошел к указанной стене, повернулся, прочел имя Шамдивер и сам же ответил: «здесь».
В списке стояло с полдюжины фамилий; я прочел их. Когда перекличка окончилась, доктор повел нас к госпиталю; мы шли за ним гуськом, в одну линию. У дверей остановился маленький человечек и сказал, что нас будут пускать к этому «малому» поодиночке; когда я перевел товарищам его слова, он сейчас же послал меня в госпитальную камеру. Я очутился в маленькой, чистой, белой комнатке; окно, выходившее на юг, стояло открытым и перед ним расстилалась громадная воздушная бездна, виднелась даль; снизу, из рынка «Грассмаркет», доносились громкие, звонкие голоса разносчиков. Подле окна на маленькой постели лежал Гогела. С лица умиравшего еще не успел сойти загар, а между тем на его чертах уже лежал отпечаток смерти. Что-то дикое, нечеловеческое было в улыбке, которой он встретил меня; мое горло судорожно сжалось, когда я увидал выражение его лица. Только смерть и любовь могут придавать чертам людей такой отпечаток. Гогела заговорил, стараясь, казалось, выражаться по-прежнему грубо.
Он протянул руки, точно желая меня обнять. С невероятным трепетом ужаса я подошел поближе к нему и наклонился в его объятия, испытывая страшное отвращение, но он только приблизил мое ухо к своим губам:
– Поверьте мне, – шепнул Гогела. – Je suis bon bougre! Я унесу тайну с собой в ад и скажу ее только дьяволу.
Зачем повторять все его грубости и пошлости? Все, что Гогела чувствовал в эти мгновения, было благородно, хотя он мог облекать свои мысли только в шутовские, грязные выражения. Больной попросил меня позвать доктора, и когда военный врач вошел в комнату, Гогела немного приподнялся, сперва указал пальцем на себя, затем на меня, стоявшего рядом с ним в горьких слезах, и несколько раз подряд повторил слово: «фриндс», «фриндс», «фриндс»![5]
К моему изумлению, доктор, по-видимому, был очень опечален. Он несколько раз кивнул своей круглой головой, повторяя на ломаном французском языке:
– Хорошо, Джонни, понимаю!
Гогела пожал мне руку, обнял меня, и я ушел, рыдая как ребенок. Часто случалось мне видать, что люди, которые вели самую непростительную жизнь, умирали необычайно счастливым, прекрасным образом! Мы имеем право позавидовать им в этом отношении. Большинство ненавидело Гогелу при жизни; но в течение последних трех дней он выказал столько твердости, что завоевал решительно все сердца. Когда вечером, после нашего посещения, разнеслось известие о том, что его уже нет более в живых, все голоса затихли, точно в доме, который посетила смерть.
Я словно обезумел. На следующее утро от этого состояния во мне не осталось и следа, но ночью я страдал от страшного нервного расстройства. Я убил его, а он сделал все, чтобы защитить меня! Я видел его ужасную улыбку! И вот как нелогично и бесполезно раскаяние: я снова готов был поссориться с кем-нибудь другим из-за слова, из-за взгляда! Вероятно, странное душевное настроение проглядывало на моем лице; когда в тот же вечер я подошел к доктору, поклонился ему и заговорил с ним, он посмотрел на меня с сожалением и состраданием.
Я спросил его, правда ли, что Гогела умер.
– Да, – ответил он.
– Он очень страдал?
– Черт возьми – немножко, а умер как ягненок.
Доктор посмотрел на меня, и я заметил, что его рука опустилась в карман. Он прибавил:
– Вот, возьмите! Нет смысла тосковать!
Маленький человечек подал мне серебряную монету в два пенни и ушел.
Мне следовало бы отделать эту монету и повесить ее на стену, потому что, насколько я знаю, отдав ее мне, доктор в первый и последний раз в жизни подал кому бы то ни было милостыню. Вместо этого я, понимая его заблуждение, засмеялся горьким смехом, потом с отвращением бросил монету далеко от себя. Темнело, за покрытой садами долиной виднелась Принцева улица, вдоль нее бегали фонарщики с приставными лестницами и лампочками; я стоял у амбразуры стены и мрачно наблюдал за ними. Вдруг кто-то дотронулся до моей руки. Я повернул голову и увидел Чевеникса. Майор был в вечернем костюме, в галстуке, сложенном поистине превосходно. Нельзя отрицать, этот человек умел одеваться.
– А, – сказал он, – я так и думал, что это вы, Шамдивер. Итак, он умер?
Я кивнул головой.
– Ну, ничего, – проговорил Чевеникс. – Мужайтесь! Конечно, это горестно, ужасно и так далее. Но, знаете, его смерть далеко не дурной исход для вас и для меня. Он умер; вы навестили его, простились с ним. После этого я вполне спокоен.
Таким образом, я во всех отношениях был обязан Гогеле жизнью.
– Я не хотел бы говорить об этом, – заметил я.
– Хорошо, – проговорил он. – Только позвольте мне прибавить одно слово, и вопрос будет исчерпан навсегда. Из-за чего вы дрались?
– Из-за чего обыкновенно дерутся люди.
– Женщина?
Я пожал плечами.
– Черт возьми, я не считал его способным на любовь, – проговорил Чевеникс.
При этом замечании все мое недовольство выразилось в словах:
– Он! – крикнул я. – Да он никогда не смел заговорить с ней, он только раз видел ее и потом за глаза осыпал низкими оскорблениями! Если бы она дала ему шесть пенни, он почувствовал бы себя на небе!
В эту минуту я заметил, что майор пристально смотрит на меня. Я внезапно замолчал.
– Ну, до свиданья, Шамдивер, – сказал Чевеникс. – Приходите ко мне завтра к завтраку, мы поговорим о чем-нибудь другом.
Сознаюсь, этот человек поступал не худо; даже теперь, когда я через такой большой промежуток времени пишу эти строки, я вижу, что он вел себя прямо хорошо.
Глава IV
Сент-Ив получает связку банковских билетов
Прошло очень немного времени; однажды я, к своему удивлению, заметил, что какой-то статский, незнакомый мне господин с большим вниманием присматривается ко мне. Это был человек средних лет, с темно-красным лицом, круглыми черными глазами, уморительными клочковатыми бровями и выдающимся лбом, одетый в платье квакерского покроя. Он был очень некрасив, а между тем в выражении его лица мелькал тот неуловимый оттенок, который служит характерной чертой людей обеспеченных. Некоторое время он, стоя на известном расстоянии, так неподвижно наблюдал за мной, что даже не спугнул воробья, сидевшего между мной и им в отверстии стены, на задней части пушки. Когда наши глаза встретились, незнакомец подошел ко мне и заговорил со мной по-французски; владел он языком довольно бойко, но страшно коверкал произношение.
– Я имею удовольствие говорить с виконтом Анном де Керуэль де Сент-Ивом? – спросил он.
– Я не ношу этого имени, но имею на него право, – ответил я. – Теперь меня зовут просто Шамдивер, по фамилии моей матери; это имя больше идет солдату.
– Мне кажется, – сказал он, – вы не приняли точной фамилии вашей матушки. Насколько я помню, перед ее именем также стояла частица «де». Ведь ее звали Флоримонда де Шамдивер.
– Опять-таки совершенно верно, – проговорил я. – С удовольствием смотрю на человека, которому так хорошо знакомы все подробности моего происхождения. Смею спросить, вы сами «благо урожденны?»
Я произнес последние слова с очень надменным видом, отчасти для того, чтобы скрыть любопытство, которое возбуждал во мне этот странный посетитель, отчасти же потому, что они показались мне крайне комичными в устах пленника-рядового, одетого в тюремное платье.
Очевидно, комизм моего вопроса поразил и незнакомца, потому что он засмеялся.
– Нет, сэр, – ответил он, говоря теперь по-английски, – я не благо урожден, как вы выразились; мне придется удовольствоваться тем, что я хорошо умру; на это я так же способен, как все самые лучшие из вас. Меня зовут мистер Ромэн, Даниэль Ромэн; я адвокат из Лондона и, что, может быть, вам будет интересно узнать, я явился сюда по желанию графа, вашего внучатого дяди.
– Как? – крикнул я. – Неужели Керуэль де Сент-Ив помнит о моем существовании? Неужели он снисходит до того, что считает солдата Наполеона своим родственником?
– Вы хорошо говорите по-английски, – заметил мой собеседник.
– У меня было много случаев научиться этому языку; меня нянчила англичанка, отец постоянно говорил со мной по-английски, а кончил я мое образование под руководством вашего соотечественника, мистера Викари.
Лицо адвоката оживилось; он, казалось, был сильно заинтересован и быстро спросил:
– Как, вы знали бедного Викари?
– Не один год, – ответил я, – и вместе с ним скрывался много месяцев.
– А я был у него клерком и наследовал его фирму, – проговорил Ромэн. – Прекрасный человек! По делам графа Керуэля отправился он в ту проклятую страну, из которой ему не суждено было вернуться. Вам известно, как он окончил жизнь?
– Да, к несчастью! – сказал я. – Он погиб от рук разбойников, которых мы называем chauffeurs[6]. Словом, его пытали, и он от этого умер. Посмотрите, – прибавил я и, скинув башмак, показал ногу мистеру Роману (у меня не было чулок). – Взгляните, что они собирались сделать со мной, в то время еще совсем ребенком.
Ромэн взглянул на шрам от старинного ожога с некоторым ужасом. – Звери! – прошептал он про себя.
– Англичанин имеет полное право выражаться таким образом, – вежливо заметил я.
Я всегда пускал в ход подобные замечания, вращаясь среди этого доверчивого народа. Девяносто процентов наших посетителей приняли бы мои слова за чистую монету и нашли бы их вполне естественными; в их глазах мое замечание послужило бы доказательством того, что я способен правильно судить о вещах, но мистер Ромэн, по-видимому, был гораздо проницательнее.
– Вы не совсем глупы, как я вижу, – произнес адвокат.
– Нет, не совсем, – подтвердил я.
– А между тем следует остерегаться иронии; это опасное оружие, – продолжал он. – Помнится, ваш дядя слишком часто прибегал к помощи этой формы речи и так к ней привык, что теперь истинный смысл его речи остается загадкой.
– Вы заставляете меня задать вам несколько вопросов, которые, вероятно, покажутся вам вполне естественными, а именно: что доставляет мне удовольствие видеть вас? Почему вы узнали меня и как вам стало известно, что я здесь?
Адвокат осторожно раздвинул фалды своего сюртука и сел рядом со мной на краешек каменной плиты.
– Это довольно странная история, – сказал он, – и я попрошу у вас позволения прежде всего ответить на ваш второй вопрос. Яузнал вас потому, что вы несколько похожи на вашего двоюродного брата, виконта Алена.
– Надеюсь, я красивее, нежели он?
– Спешу вас уверить, – был ответ, – что вы не ошибаетесь. На мой взгляд, у Алена де Сент-Ива не особенно приятная наружность. Однако когда я, зная, что вы находитесь здесь, искал вас взглядом – ваше сходство с виконтом Аленом помогло мне в моих поисках. Что касается того, каким путем узнал я, где вы находитесь, я скажу, что мне в этом отношении помогла довольно странная случайность, и опять-таки дело не обошлось без виконта Алена. Нужно заметить, что ваш кузен следил за вами и сообщал графу все, что вы делали и чем занимались… С какой целью – предоставляю судить вам самим. Когда он впервые принес известие о вашей… о том, что вы служите Бонапарту, мне показалось, что старый граф умрет от гнева и раздражения. Но мало-помалу обстоятельства несколько изменились; собственно говоря, я должен был бы выразиться: сильно изменились. Мы узнали, что вы дрались против англичан, за храбрость были произведены в офицеры, а затем снова стали рядовым. Как я уже сказал, граф де Керуэль привык к мысли, что вы, его родственник, служите Бонапарту. В то же время он начал страшно удивляться, что другой его родственник так хорошо знает все, что делается во Франции. В вашем дяде невольно зародилось очень неприятное подозрение, уж не шпион ли виконт Ален? Словом, стараясь погубить вас, ваш двоюродный брат навлек на себя тяжкие обвинения.
Мой собеседник замолчал, понюхал табак и взглянул на меня самым доброжелательным взглядом.
– Господи Ты, Боже, – проговорил я. – Да, это действительно прелюбопытная история.
– Погодите! Дайте досказать до конца! – проговорил Ромэн. – Вскоре последовали два события. Первым из них была встреча графа Керуэля с monsieur де Мосеаном.
– Я знаю этого господина и поплатился за знакомство с ним, – проговорил я. – Он был виновником того, что меня разжаловали в солдаты.
– Да? – вскрикнул Ромэн. – Это для меня новость!
– О, я не смею жаловаться! Я бы неправ и действовал вполне сознавая, какие последствия повлечет за собой мой поступок. Если человеку поручено сторожить пленника, а он отпускает его, – меньшее, чего он может ожидать за такое преступление, это разжалование.
– Вас отблагодарят, – сказал Ромэн, – вы принесли себе пользу, а еще большую вашему королю!
– Если бы я думал, – произнес я, – что причинил вред моему императору, поверьте мне, я скорее оставил бы Мосеана в адском пламени, нежели помог бы ему спастись. Для меня он был частным человеком, попавшим в затруднение, и я отпустил его, поддаваясь чувству сострадания; право, я не имел никакого желания обратить это обстоятельство себе в пользу, хотя мне и приписывают теперь различные побуждения, которых не было у меня.
– Ну, ну, – заметил адвокат, – теперь ведь это все равно. Право, в вас говорит безумная горячность… неуместный энтузиазм, поверьте мне. Дело в том, что господин Мосеан с благодарностью говорил о вас и выставил вас в таком свете, что мнение вашего дяди о вас сильно изменилось. Вскоре ваш покорный слуга представил графу Керуэлю непреложные доказательства того, что мы давно уже подозревали. Сомнений не могло остаться; теперь сделалось понятным, откуда виконт Ален брал деньги, чтобы вести рассеянную жизнь, нарядно одеваться, содержать любовниц и скаковых лошадей, вести большую игру: он получал жалованье от Бонапарта, был тайным шпионом и держал в своих руках нити самых запутанных и хитрых предприятий. Нужно отдать справедливость вашему дяде, он отлично поступил в этом случае, уничтожил все доказательства позора одного из своих родственников и перенес свое сочувствие на другого.
– Как мне понять ваши слова? – спросил я.
– Я сейчас все объясню вам, – ответил Ромэн. – В человеческой природе много непоследовательности; людям, принадлежащим к моей профессии, часто случается наблюдать это. Себялюбцы могут жить без друзей, без детей, могут обходиться без всего человеческого рода, исключая, пожалуй, только аптекаря или цирюльника, но когда подходит смерть, они чувствуют физическую невозможность умереть без наследника. Вы можете видеть на себе подтверждение этого принципа. Виконт Ален (хотя вряд ли он подозревает это) более уже не наследник графа. Остается виконт Анн.
– Вы как будто бросаете тень на моего дядю, – проговорил я.
– Неумышленно, – возразил Ромэн. – Граф вел разгульную жизнь, ужасно распущенную, но знать его и не восхищаться им невозможно; он поразительно, изысканно вежлив и любезен.
– Итак, вы полагаете, что у меня есть действительно несколько шансов стать его наследником?
– Прошу вас заметить, – сказал адвокат, – что я не был уполномочен сказать вам все, что я сказал. Мне не поручали толковать с вами о завещаниях, наследствах или о вашем двоюродном брате. Я прислан сюда с тем, чтобы передать вам только следующее: граф де Керуэль желает видеть своего внучатого племянника.
– Ну, – сказал я, оглядывая укрепления, окружавшие нас, – без сомнения, в этом случае Магомет должен подойти к горе.
– Извините, – перебил меня Ромэн, – вы знаете, что ваш дядя стар, но я еще не сказал вам, что силы графа совершенно истощены, что смерть недалеко от него. Нет, нет, сомнений быть не может: гора должна прийти к Магомету.
– Слышать такое мнение от англичанина – нечто очень замечательное, – проговорил я, – но вы по самому вашему положению – хранитель человеческих тайн, и я вижу, что вы оберегаете секрет моего двоюродного брата Алена, а это не может служить признаком свирепого патриотизма…
– Прежде всего я поверенный вашей семьи, – произнес Ромэн.
– В таком случае, – сказал я, – может быть, мне самому следует сделать вам одно признание. Скала, на которой стоит наша тюрьма, высока и крута; можно почти наверное сказать, что с какого бы пункта утеса ни упал человек – он погибнет, а между тем, мне кажется, я обладаю парой крыльев, которые в состоании снести меня к подножию скалы. Но, очутившись внизу, я стану совершенно беспомощным.
– А может быть, в эту-то минуту я и выступлю на сцену, – ответил адвокат. – Предположите, что, благодаря какой-нибудь случайности, которую я не предугадываю, и о которой не высказываю своего мнения…
Тут я прервал его.
– Позвольте сделать одно замечание: я не связан словом.
– Ятак и понял вас, – заметил Ромэн, – хотя многие из вас, французских дворян, находят, что данное ими слово мало тяготит их.
– Сэр, я не из числа подобных людей, – проговорил я.
– Откровенно говоря, я и не считал вас таким, – ответил адвокат, потом продолжал. – Итак, предположим, что вы, освободившись, очутились у подножия утеса. Хотя я не могу сделать для вас многого – все же кое-чем я в состоянии помочь вам продолжать ваш путь. Прежде всего я унес бы с собой во внутреннем кармане или в башмаке вот это, – и мистер Ромэн подал мне пачку банковских билетов.
– Подобная вещь не принесет вреда, – заметил я и сейчас же спрятал деньги.
– Затем, – продолжал адвокат, – вам следует знать, что отсюда до того пункта, в котором живет граф де Керуэль, то есть до Амершем-Плэса, близ Дунстабля – путь далекий. Вам придется пройти большую часть Англии, причем я не могу ничем помочь вам в приискании первых мест остановок; в этом случае вы должны полагаться только на свое счастье и изобретательность. У меня нет знакомых в Шотландии, или, по крайней мере (тут мистер Ромэн сделал гримасу), нет бесчестных знакомых. Но дальше у югу, близ Уакфильда, живет, как мне известно, один господин по имени Берчель Фенн, не отличающийся излишней крайностью убеждений; он может провезти вас дальше. По-видимому, этот человек занимается систематическим укрывательством бежавших пленников. Тайна его жжет мне язык. Но ведь, имея дело с негодяями, следует ожидать всего, а ваш двоюродный брат Ален, как мне кажется, самый большой негодяй из тех, которых я знаю!
– Если этот Фенн находится в зависимости от моего двоюродного брата, быть может, мне следует держаться от него как можно дальше?
– Мы напали на след Бречеля Фенна благодаря некоторым из бумаг виконта Алена, – возразил адвокат. – Но мне кажется, что вы можете положиться на Фенна (по крайней мере, настолько, насколько во всем этом гадком деле можно вообще полагаться на кого-нибудь). Думаю, что вы даже могли бы прикрыться именем виконта; в этом отношении фамильное сходство оказало бы вам услугу. Что, если бы, например, вы назвались его братом?
– Пожалуй, – проговорил я. – Но подумайте: вы предлагаете мне очень трудную игру; по-видимому, у меня чертовски сильный противник в лице моего двоюродного брата; я же военнопленный, а потому нельзя сказать, чтобы у меня в руках были хорошие карты. Что же я могу выиграть?
– Очень многое, – ответил Ромэн. – Ваш дядя страшно богат, страшно. Он вовремя взялся за ум и почуял революцию еще задолго до ее начала; пользуясь моей фирмой, граф продал все, что мог продать, перевез все, что можно было перевезти, в Англию. В Британии есть большие прекрасные имения, и Амершем-Плэс одно из лучших среди них. У графа много очень выгодно помещенных денег. Он живет по-царски. Но что в том? Господин де Керуэль потерял все, из-за чего стоит жить, – семью, родину; он видел, как умертвили его короля и королеву; на его глазах происходили страшные несчастья, совершались возмутительные низости… – Адвокат увлекался все больше и больше, щеки его покраснели; вдруг он перебил себя, сказав:
– Словом, он видел все привлекательные стороны правления, за которое сражается его племянник, и, на несчастье графа, это правление не нравится ему!