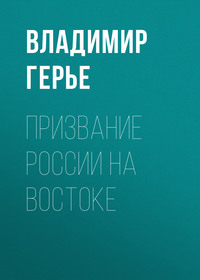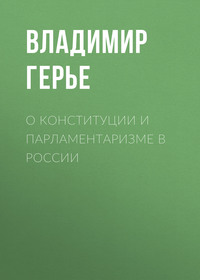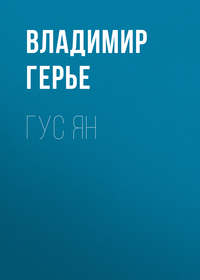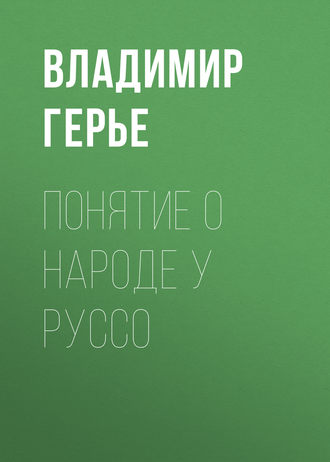 полная версия
полная версияПонятие о народе у Руссо
Сам Руссо, однако, не ограничился такой мирной пропагандой во славу природы. Природа, гармонией и миром которой он наслаждался, сделалась для него орудием неуклонной и неутомимой борьбы против современного общества и представляемой им цивилизации. Точкой отправления этой борьбы было понятие о состоянии природы (état de la nature) или о естественном состоянии (état naturel) человека.
Понятие о естественном состоянии было давно известно в публицистической литературе и представляло собой философскую фикцию, служившую для обозначения общественного быта, отвлеченного рассудком от всех конкретных признаков исторической жизни, государственного устройства, сословных учреждений, национальных и племенных отличий.
Иногда же это самое выражение обозначало историческую фикцию, воображаемое состояние людей в первобытном периоде до образования государства и семьи, до развития самых простых и первичных проявлений цивилизации. Руссо овладел этой отвлеченною формулой, разукрасил ее своей поэтическою фантазией, вдохнул в нее жизнь своею страстностью, своей любовью к природе и своею ненавистью к цивилизованному обществу. Безжизненный термин о естественном состоянии превратился у Руссо в полупоэтическое, полуфантастическое представление, для которого он заимствовал свои краски из исторических преданий, из описаний быта дикарей у современных путешественников и сентиментальных мечтаний на лоне природы. Естественное состояние сослужило для Руссо двойную службу. В «Contrat social» оно является тем состоянием, которое предшествует общественному договору и вступает снова в силу, как скоро этот договор нарушен. Таким образом, оно принимается здесь за основание всякого нормального политического порядка, за исходную точку возможного в будущем правильного развития человеческого общества. Но в совершенно другом смысле употреблялось это понятие в знаменитых «Рассуждениях» Руссо, которые положили основание его славе. Руссо возвел здесь естественное состояние не только в поэтический идеал, что делалось до него, но и в обличительный аргумент против цивилизации. Античную легенду о золотом веке он обратил в страстную, пропитанную горечью декламацию против всякой человеческой культуры. И не те или другие черты современного общественного строя, не те или другие формы цивилизации вызывали его беспощадное негодование, – нет, вся человеческая культура вообще, все, что появляется и развивается вместе с цивилизацией – образование и наука, искусство и театр, общественные учреждения и собственность, церковь и государство, – вся жизнь человечества, вся история являются под освещением Руссо постепенным уклонением от природы, прогрессивным падением.
Риторический поход Руссо против цивилизации со всеми ее проявлениями материального благосостояния и духовного развития имел в свое время глубокое значение – имеет его отчасти и теперь, несмотря на вычурно-патетическое и незрелое красноречие, на скудную и местами просто ребяческую аргументацию, которыми окутана основная мысль «Рассуждений». Обе диссертации Руссо представляют собой, в крайне парадоксальной форме, протест против цивилизации, которой достигло современное общество. Особенною парадоксальностью отличается второе «Рассуждение», направленное против гражданского и политического строя цивилизованных обществ и написанное на тему, что главные бедствия, каким подвергаются в современной жизни отдельные лица и целые массы, происходят от неравенства между людьми; самое же неравенство есть следствие общежития и цивилизации. Поэтому Руссо орошает слезами всякое проявление возникающей среди человечества культуры и встречает с проклятием всякий шаг, который делал человек на этом пути. Точкой отправления роковой истории человечества служит в глазах Руссо естественное состояние человека или, правильнее сказать, животное состояние[26], в котором он представляет себе первобытного человека. Этот первобытный человек не знает семьи, не имеет жилища и живет в полном одиночестве, от которого он только временно отказывается, побуждаемый физическими потребностями. Пока продолжается это одиночество, пока человек не имеет почти никаких потребностей, он совершенно счастлив. Но какой-то злой рок, «какое-то случайное стечение разных обстоятельств, которые могли бы никогда не появиться», побудили человека отказаться от его блаженного состояния. Первым шагом к падению было постоянное жилище. Сначала человек, чтоб отдохнуть, ложился под любым деревом или укрывался в первой пещере: но вот ему пришла охота выкопать себе яму или построить себе шалаш из ветвей: «Это был, – говорит Руссо, – первый переворот в человеческой жизни, вызвавший возникновение и различение семьи и породивший известного рода собственность, следствием чего были, может быть, уже многие ссоры и столкновения». Устройство шалаша повлекло за собой разведение огорода и земледелие: для земледелия нужны были железные орудия, и это вызвало обрабатывание металлов.
После жилища и семьи земледелие и металлургия являются новыми шагами на пути человеческого падения. В глазах поэтов, – восклицает Руссо, – золото и серебро, но, по мнению философов, – железо и хлеб цивилизовали людей и погубили человеческий род. Все упомянутые перемены в быте естественного человека, в сущности, уже вызвали личную собственность. Тем не менее Руссо встречает ее появление в истории с отчаянием и патетическим проклятием: «Первый, – говорит он, – кто, огородив участок земли, решился сказать: это принадлежит мне, – и нашел людей настолько простоватых, что они поверили ему, – должен считаться настоящим основателем человеческого общества. От скольких преступлений, войн, убийств, бедствий и ужасов избавил бы человечество тот, кто, вырвавши колья или завалив ров, закричал бы своим товарищам: берегитесь, не слушайтесь этого обманщика»[27].
С таким же риторическим негодованием Руссо встречает потом государство и установление законов и такими же парадоксами объясняет их происхождение.
Мы уже говорили о парадоксальности ума Руссо и приводили это свойство его в связь с его характером, с самолюбием и тщеславием, которые его мучили и побуждали выдаваться и отличаться от других не только оригинальным образом мысли, но и образом жизни, вкусами, даже костюмом. В этом отношении в парадоксах Руссо было много искусственного, можно даже сказать, что побуждением к ним был иногда известный расчет, и нельзя не признать некоторой доли правды в замечании Сен-Марка Жирардена, что Руссо начинает с парадокса, чтобы привлечь к себе толпу, что парадокс служит ему как бы сигналом для того, чтобы возвестить истину, и что «этот автор сначала поднимает шум, чтобы затем принести пользу»[28].
Однако ввиду того, что Руссо в минуту спокойного размышления и ученой полемики легко отказывался от своих парадоксов, не следует видеть в них лишь литературный маневр. Помимо самолюбия и известного расчета, парадоксы Руссо имели еще другой и, может быть, главный источник, сильное возбуждение чувства. Парадоксы этого писателя чаще всего свидетельствуют о том сильном аффекте, под влиянием которого он писал, и служат ясными симптомами господствовавших в нем симпатий и антипатий. На историке лежит обязанность объяснить, чем аффект был вызван и какому чувству он служил выражением.
Нет сомнения, что «Рассуждение о причинах неравенства между людьми» пропитано, так сказать, насквозь чувством негодования и злобы против всякого различия между людьми в общественном положении и имуществе, и если называть, по примеру Жирардена, «парадокс, лежащий в основании этого рассуждения, барабанным боем», то барабанный бой в этом случае возвещал не истину, а приближение тех фанатических масс, которые тридцать лет спустя разоряли дворянские замки и взяли приступом Тюльери. Но помимо этого взрыва политической страсти, послужившей сигналом для французской демократии, упомянутое «Рассуждение» проникнуто еще другим чувством, которое имеет более близкое отношение к рассматриваемому нами вопросу. Это чувство недоверия, антипатии к способности человека совершенствоваться (la faculté de se perfectionner). Указав на то, как мало человек в естественном состоянии отличается от животного, Руссо с огорчением отмечает в нем одну своеобразную черту, а именно эту способность к цивилизации, которой он приписывает все беды человечества. «С грустью, – говорит он, – мы принуждены признаться, что именно эта отличительная и почти беспредельная способность есть источник всех несчастий человека; что именно она с течением времени вырывает его из того первобытного положения, в котором его дни протекали бы в спокойствии и невинности; что, порождая с течением веков его просвещение и его заблуждения, его пороки и добродетели, она делает его тираном над самим собой и над природой. Не ужасно ли, что нам приходится прославлять как благодетеля человечества того, кто первый завел у прибрежных жителей Ориноко те дощечки, которыми они сдавливают виски своих детей и которые обеспечивают последним по крайней мере известную долю их неразвитости и их первобытного счастья»[29].
Здесь парадокс, что умственное развитие, веками совершающееся, есть корень всего зла, выражен в такой форме, что читатель мог бы принять его за иронию; но стоит перевернуть лишь несколько страниц, чтобы убедиться в полной искренности Руссо и встретиться с пресловутым изречением, что «размышление есть противоестественное состояние и что человек размышляющий есть извращенное животное» («l'état de réflexion est un état contre nature et l'homme qui médite est un animal dépravé»).
Этот коренной тезис Руссо представляется изречением какого-то сфинкса, а между тем именно он и есть та красная нить, которая вьется через все ткани его философской системы. В «Рассуждении о неравенстве» он выражен прямо, но затемняется, благодаря преобладанию политических рассуждений и демократической страсти, и потому мы обратимся для выяснения его смысла к первому «Рассуждению» Руссо, целиком посвященному развитию тех воззрений, которые сконцентрированы в приведенном нами парадоксе. Рассуждение это, как известно, было написано в ответ на поставленный Дижонской академией вопрос: «Содействовало ли возрождение наук и искусств исправлению нравов?». – Руссо не ограничился поставленными в этой теме рамками, но обобщил вопрос и написал рассуждение о роли наук и искусств в истории цивилизации.
Этот первый публицистический опыт Руссо с научной стороны еще слабее, чем второй, и уступает последнему в обдуманности плана и аргументации, а между тем заключает в себе более относительной правды. Правда, скрывающаяся за декламацией Руссо против наук и образования, состоит в протесте против неправильной и преувеличенной оценки их общественного значения и культурной роли. Время, когда жил Руссо, чрезвычайно нуждалось в предостережении от увлечения знанием, особенно же – односторонним, поверхностным образованием, основанным на чтении модных книг. Представителями того знания, против которого восставал Руссо, были так называемые философы, т. е., главным образом, энциклопедисты и примыкавшие к ним литераторы и посетители салонов. Знание их было полузнанием, если судить о нем с точки зрения современной науки, но притязания их были беспредельны. На основании своего неполного и отрывочного знания они безапелляционно решали все нравственные и политические вопросы, не заботясь о практических результатах своих теорий, и с крайним пренебрежением и высокомерием отнеслись ко всем, кто не стоял на уровне их знания. В выходках Руссо против тогдашних представителей просвещения много трезвого и справедливого, особенно если освободить эти выходки от парадоксальной формы, которой они облечены в «Рассуждении», и принять в соображение замечания Руссо, рассеянные по другим его сочинениям.
Нерасположение Руссо к просвещению можно свести к нескольким причинам. Прежде всего следует отметить у него сильное разочарование в главном орудии образования – в книгах и книжном чтении. В своем «Эмиле», говоря о необходимости путешествовать и о причинах, почему чтение путешествий не может заменить собственного опыта, Руссо произносит над книгами следующий общий приговор: «Предоставим же это столь хваленое средство тем, кто в состоянии им удовлетвориться. Подобно искусству Раймунда Лулла (схоластика), оно пригодно лишь на то, чтобы научить нас болтать о том, чего мы не знаем. Оно годится, чтобы выдрессировать пятнадцатилетних философов, как рассуждать в салонах» и т. д.[30]
В этом случае упрек, который Руссо делает книгам, мотивирован более или менее случайными недостатками и последствиями их. Но к этому присоединяется другая, более глубокая причина разочарования в них. Книги и просвещение, которые они распространяют, бессильны против страстей и интересов людей, а потому не в состоянии сделать людей более нравственными и более счастливыми. Лучше всего это убеждение Руссо выражено в его письме к членам Экономического общества в Берне[31], написанном двадцать лет спустя после появления его первого «Рассуждения». «Предрассудки, которые обусловливаются только заблуждением, могут быть разрушены; но те, которые основаны на новых пороках, исчезнут лишь вместе с ними. Вы хотите сначала научить людей истине, чтобы сделать их более мудрыми; но следовало бы, совсем наоборот, сделать их сначала мудрыми для того, чтобы они могли любить истину. Истина почти никогда ни к чему не приводила на свете, потому что люди всегда более руководятся своими страстями, чем своим знанием (lumières), и потому что, одобряя хорошее, они в то же время поступают дурно. Век, в котором мы живем, один из самых просвещенных, даже в нравственных вопросах: но разве же он лучше других? – Книги ни к чему не годны. То же самое я скажу об академиях и литературных обществах; всему, что из них выходит, люди оказывают только бесплодное сочувствие. Нет, господа, вы можете просветить народы, но вы не сделаете их ни лучше, ни более счастливыми».
Противопоставляя просвещению предрассудки и страсти как непреодолимые препятствия Руссо идет еще дальше. Людские страсти не только делают бесплодными научные истины и просветительные стремления, но они часто отравляют самый источник просвещения, потому что сами просветители нередко менее одушевлены истиной, чем собственными интересами и страстями. Эту мысль Руссо выразил очень рельефно, между прочим, в своем послании к архиепископу Парижскому, осудившему его «Эмиля»: «Я всегда замечал, – говорит Руссо, – что народное просвещение страдает двумя существенными пороками, которые невозможно устранить. Один – это неискренность (la mauvaise foi) тех, от кого оно исходит, другой – ослепление тех, кто его получает. Если бы люди без страстей просвещали людей без предрассудков, наши познания заключались бы в более тесных пределах, но были бы вернее и разум всегда бы господствовал. Но что бы мы ни стали делать, общественные деятели всегда будут одинаково руководиться интересом; предрассудки же народа, не имея прочного основания, более доступны переменам – они могут быть видоизменены, заменены, увеличены и уменьшены. Потому только в этом отношении просвещение может иметь некоторый успех, и в эту сторону должны быть направлены старания друзей истины. Они могут надеяться сделать народ более разумным, но не могут рассчитывать сделать более честными тех, кто им руководит».
Руссо, однако, вовсе не того мнения, что эта борьба просвещения против предрассудков народа должна быть безусловна и беспредельна. В приведенном письме к членам Бернского Экономического общества Руссо без обиняков заявляет своим соотечественникам, что держится в этом отношении другого взгляда, чем они. Один из вопросов, поставленных этим Обществом на премию, был следующий: существуют ли почтенные предрассудки, публично опровергать которые добрый гражданин должен остерегаться (se faire un scrupule)? «Я не могу скрыть от вас, – пишет по этому поводу Руссо, – что я высказался бы вместе с Платоном в утвердительном смысле, но это, конечно, не соответствует цели, с которой поставлен вами этот вопрос». Ту же мысль Руссо выразил следующим образом в письме к Борду, в котором он защищал себя от нападок и возражений, посыпавшихся на него после появления в свет его первого «Рассуждения». «Я уже сто раз говорил – хорошо, что существуют философы; лишь бы народ не вздумал им подражать»[32].
Эти возражения и оговорки Руссо против книжного образования и просветительных тенденций философов показывают, в каком смысле следует понимать его филиппику против наук и искусств. Эти возражения направлены против неуместных притязаний и слепого доктринерства просветителей, против высокомерного властолюбия и личного интереса, нередко скрывающихся за просветительною ролью, против безусловного господства в народе и над народом книжного, рационалистического образования. Руссо старается оградить от этого господства ту сферу жизни и тот слой народа, где оно может принести не пользу, а только вред. Разумную сторону протеста Руссо против просвещения нужно видеть в том, что оно представляется ему само по себе не высшею целью, а лишь средством – желательным настолько, насколько оно содействует благоденствию и нравственному усовершенствованию общества и народа. Эту разумную сторону протеста Руссо нужно иметь в виду, чтобы не смешивать ее с крайностями, к которым он был так склонен в литературной полемике и в увлечении парадоксами, и чтоб отличить его направление от других аналогических тенденций.
Подобные протесты против наук и образования раздаются издавна, и мотивы, которыми они бывали внушены, чрезвычайно различны. Прогресс знания и притязания науки не раз осуждались в Средние века с религиозной или церковной точки зрения, и сетования Руссо на науку иногда буквально тождественны с приговором клерикальных писателей Нового времени. Недаром реакция романтизма против просветительного направления примыкает к этом случае к Руссо, и критические нападки графа де Местра на философию совершенно совпадают с выходками Руссо[33]. С совершенно другой точки зрения ополчается против науки грубый и близоруко-утилитарный демократизм, отвергающий в области наук все, что не служит непосредственно материальным интересам массы, и все, что превышает уровень ее понимания. Руссо как вождь крайней демократии вполне разделяет ее антипатию к науке за то, что последняя становится источником нового, духовного неравенства[34], и потому в его «Рассуждении» местами слышится как бы голос какого-нибудь современного народника, вопиющего против науки, «ненужной для народа». Но хотя он говорит то языком религиозного фанатизма, прославляя подвиг халифа Омара, предавшего огню Александрийскую библиотеку, то – демократического фанатизма, мотивы его протеста против книг и наук существенно отличаются от клерикальной или демократической вражды к образованию. Он ополчается против книг и наук не столько потому, что они заглушают религиозное чувство, и не потому только, что они нарушают равенство, но в интересах нравственности и добродетели.
В этой именно области, т. е. в области этики, нужно, как мы думаем, искать главную заслугу Руссо, здесь, по крайней мере, она несомненна. Чтобы оценить ее, нужно вспомнить, какой взгляд на нравственность преобладал в эпоху Руссо; то было время господства сенсуализма, учений Гельвеция и Гольбаха, сводивших все нравственные побуждения и поступки на эгоизм, признававших один только эгоизм источником и мерилом как частной, так и гражданской добродетели. Против этого мертвящего учения Руссо возвысил свой красноречивый голос; он сумел пробудить в сердце своих многочисленных читателей такие чувства, пред которыми была бессильна аргументация модных в то время философов. «Они утверждают, – говорит Руссо, – что всякий содействует общественному благу ради собственного интереса. Но откуда же происходит то, что праведник содействует этому благу себе в ущерб? Что значит идти на смерть ради собственной выгоды? Конечно, всякий действует в своем интересе (n'agit que pour son bien); но если не существует нравственного интереса (un bien moral), который нужно принимать в соображение, тогда никогда не удастся объяснить людские действия эгоизмом или же придется ограничиться объяснением только поступков дурных людей. Но уже слишком отвратительна была бы та философия, которая пришла бы в затруднение от благородных поступков и относительно их не знала бы другого выхода, как придумать для них низкие намерения и неблагородные побуждения».
Отвергнув учение, которое безразлично объясняло все людские поступки расчетом и эгоизмом и таким образом пришло к отрицанию нравственности и добродетели, Руссо признал источником последних особое самостоятельное начало в человеческой душе, которое он обыкновенно называл совестью (conscience). Этика Руссо не представляет, конечно, строго обдуманной и логически проведенной системы; противоречия в ней встречаются на каждом шагу, декламация и нравственная проповедь занимают в ней больше места, чем философские рассуждения и аргументация; несмотря, однако, на это, успех новой доктрины был громаден и влияние ее сказалось в самых разнообразных сферах. В самом принципе, на котором Руссо построил свою этику, не было ничего особенно нового. Другие моралисты до него отыскивали с большею глубиной и с более философским методом в человеческой душе самостоятельное начало этики, но что дало доктрине Руссо особенное значение и что составляет ее оригинальность – это ее связь с другими понятиями и тенденциями Руссо.
Нравственное чувство в человеке, или совесть, как его называет Руссо, резко разграничивается им от рассудка и даже противополагается ему. Это – инстинкт, который действует независимо от указаний разума и стоит даже выше его, ибо не подвержен, подобно ему, заблуждениям. «О, совесть, – восклицает Руссо, – божественный инстинкт, бессмертный и небесный голос, верный руководитель невежественного и ограниченного существа, но разумного и свободного, непогрешимый судья над добром и злом, делающий человека подобным Богу! Тебе мы обязаны превосходством нашей природы и нравственностью наших поступков; без тебя я не ощущаю в себе ничего, что ставило бы меня выше животных, кроме печальной привилегии блуждать от одной ошибки к другой, опираясь на рассудок без твердых правил и на разум без руководящего начала»[35].
Так же определенно Руссо противополагает совесть разуму в «Новой Элоизе», где он влагает свои убеждения в уста героя этого романа Сен-Пре и по поводу его объяснений делает от себя следующее замечание, прямо направленное против энциклопедистов: «Сен-Пре отождествляет нравственную совесть с чувством, а не с суждением; это противоречит определениям философов. Я думаю, однако, что в этом отношении их вымышленный сотоварищ прав». Таким образом, источник нравственности сводится на прирожденный человеку инстинкт. Этот инстинкт, а не разум, по мнению Руссо, есть самый верный руководитель человека в его деятельности. Совесть не что иное, как инстинктивное влечение к добру и инстинктивное отвращение от зла; голос этой совести всегда указывает человеку тот нравственный закон, которому он должен следовать в данном случае. «Не достаточно ли, – восклицает Руссо, – войти в самого себя для того, чтобы познакомиться с законами добродетели и прислушаться к голосу своей совести при молчании страстей? Вот в чем заключается истинная философия – будем ею довольствоваться».
Но, противополагая нравственный инстинкт, или совесть, рассудку, Руссо в то же время приводит ее в связь с тем понятием, которое играет такую роль в его учении, с природой. Голос совести совпадает с голосом природы. Голос природы вопиет у Руссо против «отвратительной философии», основывающей добродетель и гражданскую доблесть на личном интересе. «Слава Богу, – восклицает он, – мы теперь избавлены от всего этого ужасного философского построения (appareil); мы можем быть людьми, не будучи учеными; нам не нужно истощать свою жизнь в изучении этики; мы приобрели за меньшую цену верного руководителя среди лабиринта человеческих мнений. Но недостаточно, чтоб этот руководитель существовал, – надо уметь его распознать и следовать ему. Если он говорит всякому сердцу, почему же так мало людей, которые его понимают? – А это происходит от того, что он говорит нам языком природы, который все заставляло нас забыть».
В связи с этими воззрениями Руссо получает свое полное освещение знаменитый афоризм: «размышление есть противоестественное состояние, и человек размышляющий есть извращенное животное». Французское мышление, начав с декартовского cogito, ergo sum, пришло в этом афоризме к самоотрицанию. Там мысль признавалась исходною точкой человеческого сознания, здесь же размышление отвергается ввиду того, что оно низводит человека ниже животного. И почему размышление так опасно и вредно для человека? – Потому, что оно заглушает в нем голос природы, тот нравственный инстинкт, который «делает человека подобным Божеству».
Таким образом, падение человечества, вышедшего из естественного состояния вследствие работы разума и развития цивилизации, двойное. Положение человека стало ухудшаться с тех пор, как он вступил в общежитие и образовал государство, и в то же время сам человек стал нравственно извращаться с тех пор, как предался размышлению, стал заниматься науками и стремиться к знанию. С развитием цивилизации и знания человек делается несчастным и сам он становится хуже. Цивилизация и размышление лишают его первоначального благополучия и в то же время беспорочной нравственности, которою он наделен от природы.