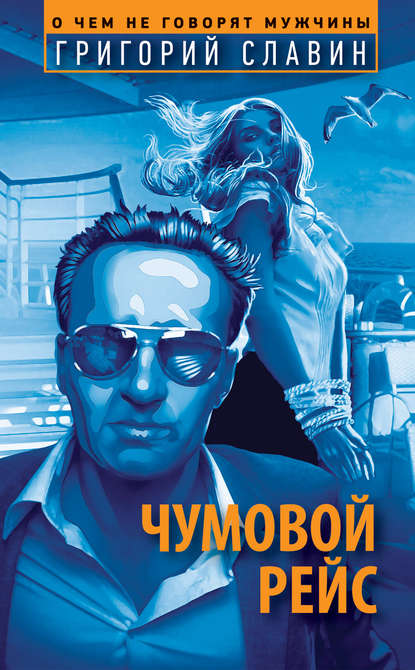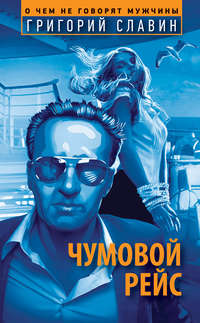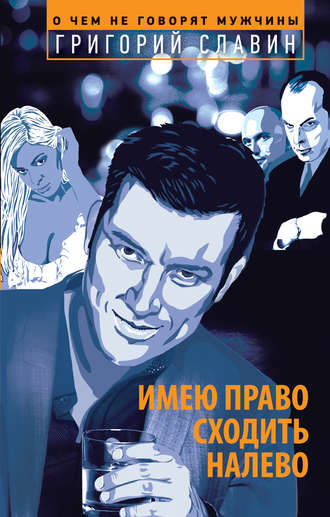
Полная версия
Имею право сходить налево

Григорий Славин
Имею право сходить налево
Глава 1
Выбор был. Он всегда есть. И тут был: второй вагон или третий. Это был выбор буриданов, но в отличие от того осла стоять до потери сознания от голодухи я не мог. Кто бы позволил. Качнулся, ведомый толпой, во второй. Эти движняки на Замоскворецкой линии очень похожи на арабские похороны. Несет тебя толпа фанатов туда, где бы ты, может быть, и не хотел оказаться, а ничего с этим не поделать. Вот ты не хочешь, чтобы тебя несли, а поздно: пульса нет, давления нет, температура близка к комнатной. С такими показателями не до скандала. Закопают и разойдутся. Вот и сейчас ты, наверное, в третий хотел бы, к той, что с «Вог» под мышкой у поручня независимость обрести пытается, а тебя – нет – во второй. К той, что, на всех наплевав, читает что-то внутри истертой обложки.
Если откровенно, нет, если честно и открыто, без этих всяких – «не судьба выбирает нас, а мы выбираем судьбу», то проломился бы я, конечно, в третий. Даже с комнатной температурой. Для спецоперации, на которую шел я вполне умышленно, читающая «Вог» женщина как объект подлого вмешательства в ее личную жизнь подходит лучше той, что читает французские стихи на французском языке. Ну, так повелось. Изначально, с давних пор. Вот, висят два персика на дереве. Один, румяный, сладенький, на самой верхушке, а второй, дешевле рублей на двадцать за килограмм, – только руку протяни. И ты тянешь и срываешь, что поближе, лишь бы побыстрее, лишь бы не заметил сторож и зад йодированной солью помолом номер один не нафаршировал.
А по существу-то, если вдуматься… И у того персика, и у этого судьба одна. И привкус один. И косточки как две капли воды. И ты не оставишь ни ту косточку себе, ни эту. Выбросишь. Так и у той, с «Вог», и у этой, с Артюром Рембо, все совершенно одинаково. Там, где положено, – вертикально, где положено – горизонтально. Да, с точки зрения странствующего холостяка, неправильно было бы сказать, что Артюра Рембо в метрополитене читающая женщина в постели полярно отличается от той, что выбирает в журнале сумочку по каталогу. Разумеется, переспать со второй менее престижно, но и головняков как бы меньше. Как правило, ей потом, когда ты уже молнию на брюках застегиваешь, вполне хватает: «Пойдем завтра в «Сахар»?» Никуда ты с ней потом, разумеется, не пойдешь, и она это знает, и ты это знаешь. Но вот скажи прямо и искренне: «Пойми, мы разные с тобой люди. Вот вспыхнула меж нами молния, и мы обнажились без разговоров. Но ведь мы сделали это не для того, чтобы потом на Пасху яйца красить каждый год, правда? Просто мне пришло в голову заглянуть на несколько минут в твой внутренний мир, а ты как раз этого и хотела».
Это как на выставке Рериха. Вот сходил раз, посмотрел, а во второй и не хочется уже. И не нужно объяснять: мол, да, понравилось, взгляд на Тибет своеобразен, как будто сам там побывал. Взяло за душу, нет вопросов, крепко взяло. Но только вышел из галереи – отпустило. Потому что, поймите, лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, – вот это основное, и его не нужно никому объяснять.
А здесь приходится, и никогда не хватает фантазии, чтобы объяснение выглядело разумно. Обычно все заваливается на сторону аллегорий и метафор. Чему уже мало верится, поскольку любил ты ее как соцреалист, а в финале твоих чувств явственно присутствуют все признаки кубизма. Молния-де сверкнула, ударила в дерево. Повалилось дерево, и вот, при освобожденном от кроны свете видно, что ничего между нами общего, за исключением презерватива, нет. Я себя ненавижу, когда несу подобную херь, честное слово. А что делать? Никто же не учит, как правильно уходить от чужой жены. Все – школа, семья, своя жена, психологи, депутаты Государственной думы – все они детально обучают обратному: как обходить чужих жен стороной. То есть даже в принципе разум человеческий как бы не предполагает, что можно оказаться с чужой женой рядом, абсолютно голыми, не в морге, не на нудистском пляже, а в постели. И вместе с этим учителя школ, ты сам, психологи, депутаты Госдумы – все только и думают о том, как бы оказаться в постели чужой жены. Не сказать, что все их мысли этим только и заняты, но ни один из них никогда не упустит возможность не упустить возможность.
И никто из перечисленных, в том числе и я, в силу отсутствия начального образования в этой области не имеет представления, как должно выглядеть расставание после молниеносного секса. Остается полагаться только на опыт в других областях, в тех, в которых ты собаку съел. А это, как вы сами понимаете, выглядит не всегда вразумительно. То есть когда вот, к примеру, Алина Кабаева на ковре, ножки голенькие, попкой обруч подбрасывает – все понятно и никаких претензий нет. Человек на своем месте. С пяти лет знает, как попой объяснять простые истины. Учили. Но вот когда она в Государственной думе косит под Фурцеву и голосует то за госбюджет, то за поправки в закон о статусе судей, выглядит это так, словно продолжает она попкой обруч подбрасывать. Сомнения в себе внушает. То есть утрата природной среды обитания мгновенно сказывается на нашем поведении.
Я одеваюсь, чтобы уйти и больше не вернуться, и женщина совершенно четко себе представляет, что я уйду и не вернусь. И ничего поделать с этим нельзя, и лучше бы ей сказать: «Ладно, беги, ищи следующую, да и мне пора». Нет. Она все равно спрашивает: «Ты мне сегодня позвонишь?» Ну, какого черта я ей должен звонить? Зачем? Чтобы снова слушать «Укуси меня вот здесь! Укуси еще!»? Я не сибарит, вопреки собственному удовольствию могу, конечно, пару раз зубами клацнуть, но делать это каждую ночь – увольте. А если она привыкла быть искусанной каждую ночь, то какой может быть звонок сегодня вечером? И я напоминаю так, уже без ночного пыла: «Ну, мы же договорились идти в «Сахар»?» И добавляю: «Милая». И одно это уже вносит совершенно ясное понимание, что я не позвоню и ни в какой «Сахар» мы не пойдем. Но так положено. Этим она находит себе объяснение, почему спит с кем попало, то есть возлагает на меня свою ответственность побыть некоторое время распутной бабенкой, а я взамен де-юре как бы не имею возможности считать ее таковой, ибо она просила позвонить для продолжения общения навеки, я обещал, а не позвонил. То есть это не она развратна и непостоянна, а я. За такой логикой мне только и остается поступить по-мужски: сказать себе, что легкомысленна она и порочна. А какие серьезные отношения могут быть с такой женщиной? То есть если короче, то она предоставляет мне шанс стать скотиной во имя ее ухода от ответственности за спанье с кем попало, и я снимаю с нее бремя моральных переживаний: ушла-де скотина – оно и к лучшему.
И ведь самое главное, что все это известно изначально, с самой первой секунды. С первого проникновения аромата ее духов в твои ноздри и твоего «здравствуйте» в ее уши. Собственно, еще и запах духов толком не донесся, а только ты встаешь в вагоне рядом с женщиной, и слова еще друг другу не сказали, не тронулись рукавами ни единожды, а уже оба знаете, что любить друг друга будете, не пройдут и сутки. Как в последний раз – от всей души и дотла. И что вы думаете? Никто не ошибся. Так и вышло: и – дотла, и – от всей души, и – в последний раз. Есть во всех нас что-то от видящих будущее.
Но вот этой, стоя и в семь утра читающей Артюра Рембо, нужно непременно что-то умное сказать. На «мы раньше не встречались?» таких не берут. На «мы раньше не встречались?» они отвечают «мы раньше нигде не встречались» – и с хладнокровием наемного убийцы дочитывают катрен.
Внесли меня фаны и тут же успокоились. Выбросив руку в нацистском приветствии, зацепился я за поручень и добрался до чтицы. Сразу так потянуло романтично. То ли «Жо Дэ», то ли «Каприз». Окутало. Понесло. Встал рядом, попытался заглянуть в текст.
Так и есть – французский. Так и есть – стихи. Как-то сразу стало тревожно. Я и стихи – сочетание в принципе малоубедительное, а я и стихи на французском языке – это и вовсе что-то странное. Как Светлана Хоркина и Государственная дума. Успокаивает лишь то, что будет время как следует подготовиться.
– Жарища, – сказал я так, чтобы ей сразу понятно было, что это я именно ей сообщил, а не бабушке, что сидит подо мной и смотрит как сова.
Она оторвала взгляд от французской поэзии и посмотрела на меня, как смотрят педиатры на вошедшего к ним на прием взрослого мужчину. И зачиталась с еще большим интересом.
– А вы знаете, – заговорил я, – минувшая зима была самой холодной за последние пятьдесят лет. А наступившее лето обещает быть самым жарким за последние семьдесят. Хотите пепси?
– Хочу.
Голос мне понравился.
Протиснувшись, я дотянулся до кнопки под табличкой «Связь с машинистом».
– Две баночки пепси во второй вагон, пожалуйста! – так кричат в шахту после взрыва, чтобы выяснить, остались ли живые.
Зеленые глаза потухли. Разочаровал. Зато я рассмешил стоящего у дверей бомжа. И чем громче он хохотал, тем грустнее становилось лицо чтицы. Моя информированность синоптика была для нее интереснее статуса придурка. Глупая шутка, согласен. Это могли бы подтвердить и десяток свидетелей вокруг нас.
«Станция «Сокол», – и колеса застучали реже, увеличивая давление в вагоне. Я прижался к будущей партнерше так, чтобы и по-хамски не выглядело, и было ясно, что удержаться мог, но не захотел. Коснулся.
Толпа свалила, толпа завалила.
– Два пепси кто заказывал? Побыстрее, пожалуйста! – и мужчина лет сорока, прилично одетый, с портфелем, бросает взгляд на украшенное «Тиссо» запястье.
Я люблю эти мгновения. В эти секунды восемь женщин из десяти ответят тебе «да», если сразу за появлением прилично одетого джентльмена с двумя банками пепси в руке ты скажешь: «Выходи за меня?» Оставшиеся две промолчат в ответ, поскольку с мужьями.
– Я заказывал. Сколько с меня?
– Сто, – приняв от меня сотню, мужчина вручает мне банки и успевает покинуть вагон за мгновение до смыкания дверей.
– Ни хрена себе, – прохрипел бомж.
Дотянувшись грязным пальцем до кнопки, он нажимает ее, безумец, и чего-то ждет. Зеленовзглядая не сводит с него настежь распахнутых глаз.
«Говорите», – раздается в динамике.
– Пива… «Балтику»… Троечку… Одно…
«Кириешки? Копченый лосось?» – доносится из динамика.
Горемыка смотрит на меня. Я киваю.
– Сырную палочку… если есть…
«Конечно, есть. Никуда не уходите. Сейчас принесут».
«Следующая станция «Войковская»…
– А вы до какой едете? – интересуюсь я у зеленоглазой.
– До «Речного вокзала», – тихо отвечает она, принимая дышащую резкостью жесть.
– До конечной, значит, – говорю я, отхлебывая из своей. Дотягиваюсь до кнопки. – До конечной без остановок, пожалуйста!
– То есть как это без остановок?! – это та часть толпы взбунтовалась, у которой с мозгами проблема.
– Мне на «Водном стадионе» выходить, как это без остановок?! – взревела минотавром размером с минотавра тетка.
– Что вы себе позволяете, молодой человек?! – доселе сохранявший академическое хладнокровие профессор в очках ринулся к переговорному устройству. Вдавив кнопку так, что другой конец ее появился, наверное, снаружи вагона, он зачастил мелко и гневно:
– Никаких без остановок, товарищ! Следуйте по расписанию! Люди на работу опаздывают! Чтобы на каждой, на каждой!..
«Второй вагон, вы что там, спятили, что ли?» – раздается из динамика.
Зеленоглазая, давясь смехом, вдруг роняет мне голову на плечо. Ч-черт, приятно… Приятно не потому, что у меня получается, а приятно оттого, что она голову как-то уронила, словно все прощая. Прощая, что уйду, придумав глупость и пообещав позвонить. Прощая, хотя ничего еще и не было, но ей очень хочется, чтобы было.
На «Речном вокзале» мы вырвались из толпы. Хохоча и расплескивая пепси, она то припадала к моей руке, за которую держалась, то запрокидывала голову, отчего рыжие волосы ее взметались костром.
– Приходи сегодня ко мне вечером?
Обычно подобные предложения делаю я. Дуры тут же интересуются: «А что у тебя интересного?» То есть они как бы не догадываются, что я не экскурсовод Алмазного фонда, но все равно спрашивают. «У меня есть коллекция винила с Реем Чарльзом, – в таких случаях отвечаю я. – Такой нет ни у кого в Москве». – «А-а, – успокаивается она, представления не имея, кто такой Рей Чарльз. – Так интересно», – говорит и идет ко мне, ни разу потом не вспомнив о слепом вокалисте. То есть вот это противоречие: звал негра слушать, а сам оттрахал – как бы превращает ее в жертву.
– А что у тебя интересного? – спрашиваю я.
Не то чтобы я хочу почувствовать себя жертвой. Просто интересно, что она ответит. Если: «Будем при свечах читать де Ламартина», – все в порядке.
– У моего брата сегодня день рождения, а их квартиру затопило. Вот они и решили отпраздновать у меня. Придешь?
Тоже ничего.
– Конечно, приду. Если адрес дашь.
Она фыркнула и выхватила из сумочки блокнот.
– В семь! – она махнула рукой, демонстративно отхлебнула из банки, показала мне большой палец и убежала.
Странное чувство овладело мной. Я хотел ее и до этого. Но не так необоримо.
– Ну, что, вечер у тебя сегодня занят?
Антоныч подошел и поднял руку. Я подставил ему ладонь, и он по ней шлепнул.
– Ты посмотри, – продолжил он, – годы идут, а ничего не меняется. Один и тот же трюк можно проворачивать по нескольку раз в сутки.
– В Актюбинске больше одного раза его не провернуть, – заметил я. – Там в одни и те же вагоны заходят одни и те же пассажиры. На второй раз там начнут бить.
– А разве в Актюбинске есть метро? – спросил Антоныч, поглядывая на «Тиссо».
– В Актюбинске наверняка есть пепси.
– Да, пепси в Актюбинске наверняка есть, – говорит Антоныч и пьет из моей банки. – Где встречаетесь?
– У нее дома. День рождения брата будем отмечать.
– Чьего брата? – кашляет Антоныч.
– Ее брата.
– Ну, желаю тебе его отодрать. За уши…
В рабочие дни «Крузер» Антоныча и мой «БМВ» с утра (как называется самое ужасное время суток) и до глубокого вечера (как принято называть начало нормальной жизни) – пылятся на парковках. Глупо стоять в пробках, если можно проехать шесть остановок на метро. Тем более что дом наш стоит как раз рядом с «Белорусской», а офисы напротив друг друга на «Речном вокзале».
Уже на выходе он напоминает:
– Ты помнишь, что я просил вас быть в двадцать три ноль-ноль?
– Да. – И тоже напоминаю: – А Гриша подтянется к половине двенадцатого.
– У него встреча с фигуристкой, – подтвердил Антоныч, словно это не я сообщил ему о фигуристке вчера вечером.
Да, я все помню. И в двадцать три ноль-ноль непременно буду. Но у меня из головы не выходит зеленоглазая. И сейчас я лихорадочно соображаю, как с семи до одиннадцати вечера выкроить на дне рождения ее брата момент, ради которого все, собственно, и зачиналось.
– Без проколов, – предупредил Антоныч, перехватывая портфель в другую руку и снова глядя на часы. – Одна нога здесь, другая там. В кафе, у вашего дома.
– Антоныч, – спрашиваю я, – а нельзя сказать, зачем ты нас собираешь?
– Слава, вечером, вечером, – морщится он. – Мне нужно все обдумать…
Значит, что-то серьезное. Хотя мог бы мне и сейчас сказать.
Значит, у «вашего» дома, в одиннадцать… У «вашего» – потому что мы трое: Гриша, Гера и я уже почти двадцать пять лет живем в одном доме. Рядом с метро «Белорусская». Антоныч все свои сорок два года прожил на Факельном, но в силу того, что друзья его жили в нашем дворе, свободное время по молодости проводил у нас. Друзья разъехались, он сошелся с нами, и теперь это – «у вашего дома» звучало уже неестественно. Естественнее было бы ему переселиться в наш дом.
Жмем друг другу руки. У Антоныча стальное пожатие. В юные бестолковые годы он и Гриша увлекались самбо. Юные бестолковые минули, настали деловые и зрелые, но занятия глупого они не оставили. Три раза в неделю ходят в «Динамо», крутят друг друга, бьют о ковер и выворачивают руки. Для них это как секс – раз попробовав, остановиться не могут.
Я поднялся на лифте на седьмой этаж здания, торчащего посреди Фестивальной как остекленевший фаллос, вошел в свой офис и швырнул портфель на кресло.
Когда он падает и кресло начинает крутиться, я постоянно думаю об одном и том же. Так иногда бывает. При определенной цикличности жизни, однажды подумав о чем-то при каких-то обстоятельствах, потом думаешь об этом каждый раз, когда обстоятельства повторяются. Это изводит и бесит. Так вот когда портфель падает на кресло и оно поворачивается, я думаю о здании, в котором расположен мой офис. Когда я подхожу к этому дому, всегда одна и та же мысль посещает меня. Она западает мне в голову, но додумывать ее я продолжаю уже в кабинете: этот дом – не фрагмент ли скульптуры «Казанова», который Церетели хотел подарить Риму, да папа отказал? Вполне возможно, и теперь скульптура разобрана на органы и совершенно безвозмездно роздана мэрией округам. Кому глаз великого пакостника – уютное кафе, кому нога – для чертова колеса в парк. А нам достался огромный, с куполообразной крышей, хер. Если он когда-нибудь рухнет, он положит на всю Фестивальную.
В этой связи меня всегда немного нервирует, когда я следую на работу, а меня спрашивают, куда я иду. Еще хуже, когда спрашивают, откуда я иду. Первое время я просто не находил себе места, но вскоре чувства поостыли, и я смирился.
Я развернул ноутбук к себе. К девятнадцати часам я должен иметь уже достаточное представление о французской поэзии.
Забиваю в поисковик: «Артюр Рембо».
Передо мной на экране:
…Она была полураздета,И со двора нескромный вязВ окно стучался без ответаВблизи от нас, вблизи от нас.На стул высокий сев небрежно,Она сплетала пальцы рук,И легкий трепет ножки нежнойЯ видел вдруг, я видел вдруг.Какая прелесть. У меня способность мгновенно запоминать цвет, запах, вкус и стихи, если все это связано с женщиной. Будет что ненароком бросить за столом на предстоящем дне рождения, небрежно распустив галстук и глядя мимо зеленоглазой.
Жаль, нет телефона, только адрес. Я бы ей позвонил. А может, и хорошо, что нет. Как ожидание смерти хуже самой смерти, так и ожидание секса иногда лучше самого секса.
Я чувствую, как зеленоглазая, имени которой я до сих пор не знаю, разводит в стороны отвороты моей рубашки и прикладывается губами к моей шее.
– Менеджеры, гоу! – слышу я по громкоговорящей связи.
Секретарша босса Маша не умеет разговаривать на русском языке. Она поражена вирусом закордонного коммерческого сленга. Открытое пространство без перегородок с четырьмя несущими стенами для нее «опенспейс», если что-то в офисе испорчено, то для нее это «зафакаплено», отдел кадров она именует «эйчаром». При этом английского она не знает, но старается на нем разговаривать. Девочка-дурочка, пишущая машинка, подушка-пердушка, она только что пригласила нас в кабинеты начальников отделов.
Меня касается губами зеленоглазая, а напротив сидят и несут какую-то ахинею не подозревающие о ее присутствии придурки. Тебя ласкает женщина, а они о взаиморасчетах… И начальник отдела смотрит так внимательно, словно подозревает, что я не здесь. Ощущения такие, словно доказываешь теорему Пифагора, а перед тобой в одном нижнем белье пошива шестидесятых сидит на стуле строгая как смерть семидесятилетняя Клавдия Моисеевна, учительница геометрии. И вот она говорит: «Если не ответишь, я и это сниму». Неприятные ощущения.
Я поеду, конечно, на такси. Во-первых, день рождения предполагает прием спиртного, во-вторых, я понятия не имею, где находится дом семьдесят два на улице Маршала Василевского. Я и улицу-то Василевского не найду. Признаться, я и о самом Василевском почти ничего, кроме того, что он маршал, не знаю.
* * *Я уже поднес руку к звонку, как увидел, что дверь в квартиру чуть приоткрыта. Странно.
Толкнув дверь, я вошел в прихожую, в которой витал аромат созревающей, вот-вот должной начаться и вскоре обязанной закончиться любви. Это букет из запахов свежего белья, смеси парфюмов на столике и влажных волос только что вышедшей из ванной женщины. Где-то в глубине гостиной светилось бра, но оно только подчеркивало мрак, в котором я оказался. Войдя и прикрыв дверь, не зная, что теперь делать с бутылкой шампанского, я поставил ее рядом с подставкой для обуви. Заодно и разулся.
Оригинальный подход к приему гостей для празднования дня рождения. Не исключено, что я должен был прийти в костюме, меня просто не предупредили. Не знаю, в роли кого я пригодился бы на этом таинстве потом, но пока мне не жал в плечах прикид Петрушки.
Делать нечего, нужно продолжать этот путь. Войдя в гостиную и найдя ее пустой, я обнаружил приоткрытую дверь в смежную комнату. И мне послышалось – или это на самом деле мне только послышалось, – скрипнул матрас и прошелестело одеяло.
Как-то сразу мелькнула мысль, что день рождения брата – это что-то вроде моих виниловых дисков Рея Чарльза. Старею, не проклюнул с первого раза.
Я коснулся двери пальцем. Она шевельнулась, и тут же послышался глубокий вздох.
«Иди сюда…»
Примерно один к одному, что и это мне показалось.
Наполняя себя фантазиями, скабрезными, но желанными, я решил последовать этому зову, пусть он даже мне померещился.
Главное, не врезаться ногами в кровать и не упасть на зеленоглазую, чтобы не сломать романтический настрой вечера и все остальное. Шажками японской гейши добравшись до постели, я почувствовал на своем животе горячую руку. Не останавливаясь, ловкие пальцы моей зеленоокой спутницы из подземки одним движением расстегнули молнию и проникли внутрь.
– Да…
Я бы ушам не поверил, если бы она сообщила, что нет.
Пиджак слетел с меня, как фантик с конфеты детдомовца. Путаясь в штанинах, я валился на кровать. Где-то я слышал или читал, что мозг свой мы используем всего на десять процентов. Не знаю, не знаю… Все зависит от обстановки, наверное. Сейчас частое и доменное дыхание зеленоглазой открывало неизвестные мне ранее способности. Одним движением левой руки снять брюки и оба носка, это, знаете ли… Можете попробовать.
И едва я успел освободиться от шелка, хлопка и шерсти, как меня жадно приняло горячее, упругое женское тело…
Я плохо помню последствия этого. Поскольку каждый новый курбет зажигал в моей и без того сияющей душе все более яркий свет, хронология происходящего утрачивалась по минованию надобности. И я бы с удовольствием поставил нотабене на особенно примечательных моментах этого столкновения планет, да только ничего не помню. Ну, бывает так… Когда очень хорошо или когда очень плохо.
Сначала мне было хорошо. От упругости выпуклостей и бездонности впадин желанного тела меня трясло, и плюнь на меня кто в тот момент, раздалось бы шипение. Но с течением времени ситуация стала меняться. Мне было то хорошо, то плохо. Я вертелся как в центрифуге, от чего меня тошнило и икало, потом я оказался в роли коня амазонки… через минуту уже и сам скакал куда-то, подобно булгаковскому герою за тем лишь исключением, что не было не только лунной дороги, но и даже огонька в конце пути… А возраст, знаете ли, уже не тот, чтобы под седлом ходить.
И вот наконец, когда я уже почти готов был взорваться тостом от такого неожиданно-приятного празднования дня рождения, зеленоглазая уронила меня на спину и снова оседлала.
Неземное удовольствие после этого маневра длилось всего несколько секунд. Дальнейшее потрясло настолько, что меня едва не подкосила эректильная дисфункция. Зеленоокая, набрав в грудь воздуха, запела.
Я бы и здесь хотел сказать, что, мол, так иногда бывает… Прилив чувств… эйфория, грогги… Но, мама дорогая, я не могу припомнить, как ни тужусь, чтобы на мне пели.
И не просто пели, а…
Я обожаю «Травиату» с Нетребко. Заядлый театрал, я могу в мгновение ока отличить фальшь от маститого голоска. Раз в месяц меня одолевает тоска по высокому и чистому, и тогда я рвусь в Большой, чтобы слушать, слушать. Слушать…
А тут нате. Не нужно никуда рваться. А главное, никаких очередей за билетом. Ты уже у самой кассы. Не, на Нетребко я билет сегодня купил за банку пепси, но меня тем не менее не обманули. Это было не душевое пение. Надо мной лилось восхитительное сопрано. Что-то напоминающее Кирстен Флагстад в расцвете сил.
Нет, я не против вокала. Просто не привык слушать арии из оркестровой ямы.
Качаясь и роняя мне на лицо влажные волосы, зеленоглазая пела и качалась, качалась и пела, а я, признаться, не мог набраться смелости, чтобы встать и уйти из зала. Человек поет для тебя, надрывается, ну, может, не столько для тебя, сколько для себя, но ведь и ты слушаешь. И вдруг ты встаешь и уходишь. Это как если освистать. Вот взять сейчас и, находясь в ней и под ней одновременно, освистать. Это то же самое будет.
С другой стороны, все хорошее со мной уже давно случилось. Приблизительно за мгновение до того, как Альфред стал искать ссоры с бароном, а Виолетта в тревоге за жизнь возлюбленного пыталась предотвратить дуэль, все и произошло. Со мной было кончено, но зеленоглазая решила, видимо, испить эту чашу до дна в одиночестве. И около десяти минут я слушал, как силы оставляют Виолетту, как радость ее сменяется бурным отчаянием – ведь мать ее, сука, – она не хочет умирать, когда счастье так близко! В последнем порыве Виолетта – я помню – должна была броситься к Альфреду, умереть на его руках и там закончить свой страшный путь…