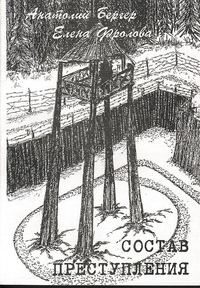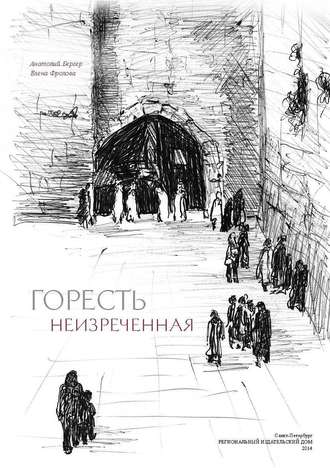 полная версия
полная версияГоресть неизреченная (сборник)
Обед подходил к концу. Никогда в жизни я не ел такого свежего бульона, такой нежной поросятины. Уже веяло вечером, день уходил. Дети ложились спать, разбрелись по курятникам и стайкам звери, успокаиваясь после столь жестокого и сытого для них дня. Бусик давно валялся на печи, и им можно было размахивать туда-сюда, что и делал Сашин Вовка, а кот не просыпался и даже глаз не открывал. Легли спать и мы после долгих пререканий – кому на кровати: хозяева укладывали нас, а мы их, в конце концов, они настояли на своём и сами улеглись на полу.
Утром надо было уезжать. «Пишите нам, – говорили мы с Леной, – и приезжайте в Ленинград». – «Может, когда и сможем», – кивал головой Саша. Мы уехали. Через несколько месяцев в декабре кончилась моя ссылка. Ленинград превратился в явь. От Саши и Нади писем не было, но в следующем году наша бывшая хозяйка тётя Надя, с которой мы изредка переписывались, сообщила, что Саша умер, доконал его диабет. Жена его, Надя, нам так и не написала. Единственное, что я могу сделать сейчас для Саши – рассказать о нём что запомнил. Жаль, что не помогло ему мумиё.
* * *Сегодня утром лист пошёл —По всей тайге, куда ни глянешь,Слетает осени в подолМедь, золото, багрец, багрянец.И речка ловит на ходуИ гонит вдаль напропалуюСвою добычу золотуюУ всех деревьев на виду.И под ногами впрямь горитЗемля медлительно и пышно,И каждый шелест говоритТак явственно, что всюду слышно.1974,Курагино
* * *По Тубе пошла шуга,По судьбе пошла туга,И парому не пройти,И до дому нет пути,Уплывает хмурый лёд,Убывает птичий лёт,И снега кругом, снега.По Тубе пошла шуга…1974,Курагино
* * *Перестал ходить паром,Обивает снег пороги,Баба тыкву на порогеРубит длинным топором.Сыплет семечки на печь,Разгораются уголья,Пересыпанная сольюРусская играет речь.А за окнами бело,В белом крыши и заборыИ далёкие просторы,Где вчера еще мело.1973,Курагино
* * *Река встаёт и громоздится,Белея медленно кругом,И лишь у берега дымитсяВода и лезет напролом.К ней по истоптанному спускуИдут, сбегают второпях,И веет стариною русскойОт коромысла на плечах.Виденье призрачной эпохи,Что разве в сердце и жива,И вёдра тихие, как вздохи,Качаются едва-едва…1973,КурагиноГоресть неизреченная
I
Я буду объективен в каждом слове,Пускай былое станет за строкойИ скажет, не боясь ни слёз, ни крови,На призраки обид махнув рукой.Ведь есть же что припомнить год за годом,Была же в этой дружбе Божья весть!Летели строки – дух не перевесть,И город вырастал под небосводом,А деревца на улице твоейВздыхали, и трамваи напоследокЗвенели нам во мгле ночных огней,И дождик был таинственен и редок.Припомнить ли высоких слов полёт,О нет, не разговоры – монологи,И то, что в грозный час произойдёт —Припомнить ли печальные итоги …II
По улице мы шли и заглянулиВ какой-то двор, не знаю, отчего,Как бы услышав в голубином гулеС грядущим голосом строки родство.Там у стены приземистой и тёмнойЖелтея, деревцо тянулось ввысь,Раскидывая ветки неуёмно,И ты мне вдруг сказал: «Остановись.Взгляни – вот лучшее».И в самом деле,Узнали будто осень мы в лицо,А листья золочёные летели,И медленно дрожало деревцо.«Вот наши судьбы, наши вдохновенья —В глухом дворе, у сумрачной стеныВозносим небесам благодаренья,Но злато строк своих терять должны.Кто подберёт?»И мы ушли. И сноваНас улицы кружили и вели,Но я твоё навек запомнил слово,И хмурый двор, и деревцо вдали.III
Владиславу Ходасевичу
…Судьба поэта в каждой строчкеИ точность каждой запятой,Парижской ночи мрак пустой,Российские лихие ночки.На пьяных улицах свистки;Пайки, плакаты, приговорыИ тяжесть лиры.Кратки сборыИз ночи страха в ночь тоски.Но взяли мы из рук твоих,Поэт, и злость твою и вздохи,Тяжёлый груз ночной эпохиИ наш взвалил на плечи стих.И сеятель недаром твойПрошёл – зерно, пробив бетоны,Взошло свободною строкой,Хоть и слышны порой в ней стоны.IV
Перекликались замыслы и звуки,Как древние дозорные костры,Трамваи шли в тартарары,И звёзды падали нам в руки,Твой белый стих в ночи белел,Пылали церкви, и поэтышли на расстрел,И предрекали кровь приметы,Катились казни по Руси,Жестокие сбывались сроки —Как скорбно, Господи спаси,Перекликались наши строки!О, как их слушала Нева,А то вдруг площади, вокзалы,То финский пригород, то шалыйШум электрички лез в слова.А помнишь, в тихом соснякеТы белку увидал на веткеИ ей прочёл. И впрямь, к строкеОна склонила слух свой меткий.«Природа не враждебна нам, —Ты мне сказал, – мы с нею вместе,Услышав светлое известье,Она сияет в лад стихам.Но жалкую почуяв ложь,Враз прячется и пропадает,То бьёт её лихая дрожь,То в злой озноб её кидает».И словно бы в ответ листокСкользнул, кружась, мелькнул и замер…Перекликанье наших строк!Как перестук во мраке камер…V
О, наши ненависти, наши страсти…Как рассказать?Вот комната твоя,Журнальный столик, и листы, и счастьеСовместности, и чаша нам сия.Дверь на задвижку. Охраняют стеныОт милостей родителей твоих,О, как же наши тайны сокровенны,И как отчаян, и как звонок стих!Он небеса пронзает, он свергаетТвердыни зла, но друга два иль триЕго узнали…Светофор мигает,Дрожащие мелькнули фонари,Последний пассажир, на эскалаторСтупаю я, резиной пахнет гул,А в воздухе метание метафорИ ритмов всех размашистый разгул.О, как внезапно пели телефоны,Как лифты обрывались в глубину!Но и не только творчества законыМы знали, не поэзию одну.Любимые нас мучили жестоко,Пустых знакомств томила кабала.О, нищеты и тусклых служб морока!Но надо всем поэзия была!Она превозмогала все напасти,Летя к звездам с улыбкой на устах…О, наши ненависти, наши страсти!А за спиной уже маячил страх…VI
И грянул гром с тяжёлой силой злобной,Внезапно, днём весенним, поутру.Я этот день запомнил так подробно,Что с памятью о нём, видать, умру.О, те шаги, заглядыванья в щели,Те голоса пустые, взгляды те,И всё взаправду, въявь, на самом деле,Не сон лихой, не строчка на листе!Потом Литейный, зданье, что могилойНазвать бы правильнее, кабинет,Откуда не выходят, а на нетКак будто сходят.И со мной так было.Лязг ружей. Конвоиры. Лязг ключей.Бетонный пол. Железной койки вздроги.О, стих мой милый – вздох души моей,Мечты мои – и вот теперь итоги.И ты – бетонный тот же меришь полПустынными шагами, той же дрожьюДрожит железо койки.Он пришёл,Наш общий час – о том и слово БожьеНам предрекало притчей о зерне,И о разбойниках, и об Иуде,О том и строки пели, и во снеНе зря метались взрывы, стоны, люди…Припомнить ли ту лобную скамью,Змею клевет, скользнувшую меж нами…Тогда-то мы испили – письменамиПредсказанную чашу нам сию.Ещё и встречи были, и слова,И даже строки снова, как бывало,Но каждый понимал, что миновалоТо роковое, чем душа жива.VII
В машине, в клетке той железнойТрясло, мотало нас двоих,Как бы и впрямь, и въявь над бездной.И вдруг ты прочитал свой стих.В нём город звонко и знакомоМаячил и сводил с ума,Сугробов белые изломыЛепила медленно зима,И сквозь окошко благодарноТебе светили куполаЗа тяжкий жребий твой мытарныйИ светлых строк колокола.И ты умолк, и всё, что било,И разобщало нас, и жгло,Перед строкой крутою силойВо мрак беспамятный ушло.И только золото собораИ зимний город вдалекеПечальным отсветом укораМерцали мне в твоей строке.VIII
Последняя встреча. Нары.Параша в углу. Скамья.Сумрак суровой кары.В последний раз ты и я.Как пронесу сквозь годыТот взгляд и тот разговор,Потолка злые своды.Двери, глазок в упор.Прощай. Между нами былиПоэзия, сны души,Тюрьмы жестокие были,Допросов карандаши.Прощай. Сгорело, как хворост,Счастье, черна беда.Неизреченная горестьНам теперь навсегда.1974Красноярский край,
пос. Курагино
Елена Фролова
Как я заказала себе мужа
Мы шли по Невскому – моя подруга, наш приятель Эмиль и я. Было 30 апреля 1965 года. Обсуждали, как отметить Первое мая (мы тогда отмечали всё, что угодно – был бы повод собраться). К этому времени я уже была разведена. Молодая разведёнка – очень престижная позиция. И как полагается, капризничала:
– Позови кого-нибудь нового – все надоели.
Эмиль знал, казалось, весь Ленинград. Он вытащил пухлую записную книжку:
– Вот есть интеллектуал.
– Надоело.
– Вот оригинал.
– Хлопотно.
Спектакль становился всё более весёлым. Подруга уже закатывалась.
– Есть поэт.
– Поэт – это интересно.
Эмиль зашёл в телефонную будку, набрал номер Толи Бергера. Толя только что вернулся из командировки в Москву. Что делать первого мая, не знал, всё же решил попижонить, сказав, что уже приглашён. Но Эмиль знал своё дело:
– У нас очень маленький пай. И такая женщина.
Подруга стучала в окно будки.
– Почему одна?
Толя слышал смех, наши голоса.
Назавтра они ждали меня на станции Метро «Чернышевская». Я увидела высокого худого молодого человека в болоньевом плаще и соломенной шляпе.
Нет, я не засмеялась. Но сразу стало весело.
Когда мы пришли к хозяину нашей вечеринки, я увидела, что новый знакомый начинает лысеть, и, видимо страдая от этого, прячет раннюю лысину под волосами и вот – под шляпой.
Мы танцевали. Танцевал он средне. Разговаривали. Это было гораздо интереснее. Высокая образованность, воспитанность, интеллигентность и какая-то детскость. Толя пошёл меня провожать. Я тогда снимала комнату на Фонтанке близ БДТ Он жил в этих краях – на Большой Московской. Провёл меня через свой любимый переулок. Глухие стены и только высоко несколько горящих окон.
Я сказала:
– Даже каблучки испугались.
Позже, когда мы вместе смотрели репродукции картин Пауля Клее (могли ли мы предполагать, что через много-много лет в мюнхенской пинакотеке нас со всех сторон будут окружать картины этого художника!), вглядываясь в его работу «Ребенок на вокзале», мы вспомнили наш первый вечер, этот переулок, чувство затерянности (каблучки испугались) и совместность переживания.
Не помню, на какой из встреч Толя впервые прочитал мне свои стихи. Мы гуляли по Фонтанке, спускались к воде, я сразу ощутила талантливость, некоторые строки моментально врезались в память:
Летели листья врассыпную,Трамвай мелькал и дребезжал.Я осень солнечно-седуюВ ладонях, как птенца, держал.Но хоть разговоры и чтения становились всё интереснее, а встречи всё горячее, я говорила подруге:
– Понимаешь, он мальчик. Ну, две недели – и всё.
Проходили две недели:
– Ну вот, сходим на концерт в филармонию – и всё.
– Ну, до отпуска и надо расставаться.
А в отпуске, когда Чёрное море так ласково принимало в свои объятия, когда днём весело было вмешаться в пёструю, фланирующую по бульварам толпу, а вечером слушать многоголосое пение молодых грузинских парней, собиравшихся на пляже, и смотреть на лунную дорожку, я окончательно поняла, что скучаю по этому мальчику, что всё совсем не так просто.
Толик встречал меня в аэропорту и сразу сказал, что не может без меня, и что это навсегда. Я сказала: «Да», но оба мы понимали только одно – мы хотим быть вместе. Всё остальное неясно.
Неустроенность. Копеечные зарплаты. Толя жил в маленькой квартирке с мамой, папой, дедушкой.
Мне уже довелось войти в чужую семью. У моего первого мужа и его мамы была чудесная квартира на Невском. И хоть моя первая свекровь относилась ко мне замечательно, и всё как будто благоприятствовало нашему союзу, я ушла от мужа. И сейчас меня снова страшил другой уклад жизни.
Но не только бедность и знаменитый «квартирный вопрос». Не думаю, что здесь какая-то мистика, но внутреннее чутьё подсказывало мне: та жизнь, к которой я стремилась, которую с трудом строила, сегодня под угрозой.
Я родилась в Ленинграде, но его не помнила. Эвакуация. Затем папу направили во Львов. Мне было 13, когда я осознанно увидела Стрелку Васильевского острова, Эрмитаж, переулки у Сенной… Позже мои львовские друзья вспоминали, что с тех самых пор я говорила: «Жить можно только в одном городе». Я окончила факультет журналистики Львовского университета, сумела сама вернуться в Ленинград, занималась на театроведческом факультете ЛГИТМИКа, печаталась, собиралась поступать в аспирантуру.
Толик с интересом относился к моему увлечению театром, даже мировую драматургию знал, наверное, лучше меня. Но тревога не оставляла. И однажды я сказала:
– Мне надо уцелеть, – и ушла.
Страдали мы оба. Первый не выдержал Толик. Позвонил. Я кинулась навстречу.
Больше уцелеть я не пыталась. И всё равно ссорились, мирились. Стихи тех лет сохранили свидетельства раздоров:
Вместе тесно – тошно врозь.Вот расстаться и пришлось,В той болезной теснотеЯ не я, и мы – не те.Что ни слово – то не так,Что ни дело – то пустяк,Плохи служба и друзья,И характер мой, и я,А тебя со всех сторонОсаждают – он, он, он,И бегут твои годаДаром – быть со мной беда —Ни покоя, ни семьи —Только тяготы мои,И в грядущем тот же путь,И когда ж тебе вздохнуть?Что ж – коль тесно так вдвоём —Разойдёмся – и бегомПрочь – куда бы чёрт ни нёс,…Но откуда привкус слёзГорький на сердце? И тыВсё глядишь из темноты,И болезной теснотыСладко помнятся черты.16 января 1969 года мы поженились.
Ссоры остались позади.
А 15 апреля 1969 года пришли ОНИ…

По другую сторону проволоки
Обыск начался рано утром. Не помню, как они вошли, не могу сказать, спала я или уже встала. Очнулась от шока, когда услышала, как кто-то из гэбистов сказал мужу, что он привлекается к следствию по делу Мальчевского.
– Не знаю я никакого Мальчевского. Это ошибка.
Мальчевский? Это имя, действительно, ни о чем не говорило. Не было такого среди знакомых. Не мелькала эта фамилия и в передачах «голосов».
А обыск между тем уже шёл. Открывали, переворачивали, выбрасывали.
Мужу предложили поехать в ГБ и там объяснить, что произошло недоразумение. Может потому, что привлечение по делу незнакомого человека казалось абсурдом, или знание истории страны на поверку оказалось головным, и живая память не подсказала прошлые уроки, как бы то ни было, но мы ничего не собрали Толику в дорогу. Даже денег не дали: мелочи не нашлось, а большая по тем временам сумма – десятка – показалась ненужной.
– Да его на той же машине и привезут, – говорили гэбисты.
Как меня потом мучила эта не положенная в карман десятка, как не давала покоя собственная растерянность!
Сейчас, задним числом, иногда задаёшь себе вопрос: предполагали ли мы возможность ареста, боялись ли его? Наверное, и да, и нет. К этому времени, к 1969 году, мы уже давно понимали, что во всех бедах страны виновато не то мифическое, так неумело названное «культом личности Сталина», что дело в строе, что он не изменился и сегодня. И в стихах Толи, и в наших разговорах ощущалось настойчивое стремление разобраться, как и почему произошло это с Россией в октябре 17-го, почему происходит сейчас.
Что за такие мысли не похвалят, мы, разумеется, знали. Но Синявский и Даниэль печатали свои произведения за границей, москвичи вышли на площадь, мы же говорили дома, читал Толик узкому кругу друзей… Разве только после оккупации Чехословакии, которую Толя предвидел ещё в июне («Бессребренник – трудяга»), разве что тогда стало уже совсем невмоготу и мы говорили о танках на площадях Праги со всеми – на работе, при встрече со знакомыми. Но и тут – сколько нас слышало?
Нет, всё-таки сознательных мыслей об аресте не было. Вот почему никто ничего не прятал, не хоронил, открыто в столе лежали тетради… Вот почему я так неумело проводила мужа в Большой Дом.
А обыск продолжался. Вытащили тетради, бумаги. Стали рыться в письмах.
Меня передёрнуло:
– Чужие люди копаются…
– Ваши письма, Елена Александровна, мы отложили.
– Спасибо.
Подошла очередь книг. Гэбисты и понятые снимали их с полки, перетряхивали. Понятые были, конечно, из стукачей. Два молодых парня. Свекровь спросила их: «Вы учитесь на юридическом?» – «Нет, в первом медицинском». Именно они, эти парни и навели на книги – показали полку, где стояли произведения философов: Ницше, Шопенгауэр, Шпенглер. Всех этих врагов марксизма забрали, потом часть вернули, но Шпенглера «Закат Европы» приобщили к делу.
Всё время обыска я думала об одном. Мне казалось, что за стихи в тетрадях судить нельзя. Но как сделать так, чтобы им не попались напечатанные, хранящиеся в папках.
Шло время. Гэбисты разбирали книги. В комнате остался один, когда подошла очередь полок с папками…
До сих пор не знаю что это было: либо, и правда, среди гэбистов есть люди, либо уж так сильно я этого хотела…
– А на этих полках что?
– Моё театроведение.
Там, действительно, были и мои материалы, но Толины папки…
Полки остались нетронутыми. Обыск заканчивался. В ту пору я работала в заводской многотиражной газете. Пока эти люди рылись, нельзя было даже позвонить, предупредить, что я не приду. Ушли. Я поехала на завод. Надо было всё сказать редактору.
К счастью, я работала с глубоко порядочными людьми. Мы спорили, расходились во взглядах на политику, на литературу, но всё это ничего не меняло, и в благородстве их я не сомневалась. Так и тогда – рассказав в редакции про обыск, я зашла к своей приятельнице-юристу. И с ней я спорила о Чехословакии, но то было вчера…
– Ирина, сегодня забрали Толика. Мне надо предупредить друзей, чтобы они убрали из дому весь самиздат, а мой телефон прослушивается.
Она дала мне ключ и вышла из комнаты.
Вечером мы пытались распихать всё по местам, сделать квартиру хоть более или менее жилой. Напряжение не спадало, мы всё ещё верили, что Толик вернётся, всё ждали, прислушивались к каждому звуку машины. Но около двенадцати ночи вместо Толика приехал его друг Витя сказать, что только сейчас и у него окончился обыск.
* * *На следующий день у нас с подругами было совещание. Конечно, мы пришли к нашей старшей. Тамара Владимировна Петкевич 13 лет провела в лагере и ссылке в сталинскую пору.
– Вот и следующее поколение пошло, – глаза у неё были мудрые и грустные.
Стали решать, что делать. Главное было – убрать из дому перепечатки Толиных стихов и найти адвоката.
Какая-то подборка была у моих родителей. Не помню, почему, но в этот день дома их не было. Великий конспиратор, я дала Любочке ключи и отправила её забирать стихи. Если бы ей встретились соседи, если бы поинтересовались, что тут, у дверей делает незнакомая женщина. К счастью, обошлось.
Самой трудной была проблема папок. Аля сказала, что заберёт их. Но хранить в её коммунальной квартире было опасно, поэтому пока решили поискать другой путь, и только если ничего другого не выйдет, тогда уж…
Адвоката Тамара Владимировна нашла через пару дней. Порекомендовал его Ефим Михайлович Эткинд. Это был Шафир, человек, который брался за политические дела даже в конце сороковых, когда каждое участие в процессе могло кончиться арестом, когда, провожая его, жена не знала, встретит ли снова.
Не могу сказать, чем мне помог Шафир, не помню особенно важных советов. Одна из идей его была – попытаться поменять статью с 70-й, где агитация и пропаганда с целью подрыва советской власти, на 190-1, когда подрыв власти не входит в намерения «злоумышленника». Всё это, конечно, было нереальным. Исход дела был предрешён заранее и не в суде. Да и не стоило этого, наверно, делать, хоть по 190-й срок был бы меньше, но отбывать его с уголовниками… Впрочем, что говорить о намерениях адвоката, когда все долгие месяцы следствия он не был допущен к делу. Но то, что Шафир взялся защищать Толика, было очень важным: с ним я не чувствовала себя одинокой. Помню, как он слушал мой рассказ о том, как там, в Большом Доме меня пытались натравить на мужа:
– О Павлике Морозове мы уже слышали, поехали дальше, – и такая знакомая, такая близкая мне ненависть была в его взгляде. Но время шло, следствие тянулось. Сердце у Шафира было больным, летом его не стало.
Перед смертью он передал меня человеку, которому абсолютно доверял – Семёну Александровичу Хейфицу, прекрасному профессионалу, яркому, умелому защитнику. Но с той поры я уже была одна, тех одинаковых реакций, той общей ненависти не было.
Впрочем, я забежала далеко вперёд. Сейчас на очереди рассказ о папках, об Але, о наших детективных историях.
Дома мы решили, что свёкор отнесёт перепечатки Толиных стихов своему другу детства. Поэтому, когда Аля позвонила мне, я сказала ей, что помощь не потребуется. Но Аля настаивала. Каюсь, я даже почувствовала лёгкое раздражение – ну, сказали же, что не надо.
Какое счастье, что Аля поверила тогда не мне, а своему безошибочному чутью. Подъехав к нашему дому, она почему-то стала обходить его с улицы; не зная наших окон, вдруг увидела библейски-прекрасное лицо Толиного дедушки и мою свекровь, которая кормила его в эти минуты.
Через окно Аля стала делать знаки. Толина мама, заметив её, точно так же стала показывать, что всё в порядке, ничего не надо. Но как раз в эту минуту послышались звуки открываемой двери и появился бледный, совершенно подавленный свёкор: друг детства папок не взял. Забрав их из рук мужа, свекровь готова была передать Але в окно. Но Аля сделала знак выйти и идти следом. Так они и шли до дома с лифтом и там, в этом лифте, нажимая кнопки разных этажей, перекладывали папки из портфеля в Алину сумку. Эти папки Аля потом прятала у друзей, скрывала в своей коммунальной квартире. С ними было много хлопот, много страхов. Но сейчас, переложив стихи в Алину сумку, моя свекровь и моя подруга пошли по разным сторонам улицы, как настоящие конспираторы. Слава Богу, что и среди гэбистов не все хорошие профессионалы.
* * *Они пришли назавтра. Опять обыск, опять поиски, открывание, выбрасывание, перетряхивание. Надо сказать, что озабоченные папками, мы сами не проверили свой дом, не разобрали писем, не подумали, что там может оказаться криминалом. В результате гэбисты взяли письма Коли, какую-то Толину и Колину полудетскую клятву, которая там, в суде, позже выглядела почти как заговор.
Но в ту пору я ничего не знала об этом. Освобождённая от мыслей о перепечатках стихов, я встретила гэбистов словами:
– С вами не соскучишься.
А когда во время обыска пришёл Витя и тоже прореагировал на них с порога: «Ба, знакомые всё лица», я сказала:
– Ну вот, Витенька, у меня, наконец, есть время и место зашить тебе подкладку на плаще.
И устроившись с иголкой под взглядом удивлённых гэбистов, читала Вите стихи Семёна Гудзенко: «Нас не надо жалеть, ведь и мы б никого не жалели, мы пред нашей Россией, как пред Господом-Богом, чисты»…
Что в жизни начался совсем другой отсчёт времени – всё ещё внутренне не верилось…
* * *Это может показаться странным, но сначала в Большой Дом мы рвались сами. Витя просто пошёл туда назавтра после обыска выяснять, что и по какому случаю у него искали, чем, естественно, вызвал в непривычном к такому учреждении переполох. Я звонила туда каждый день, спрашивала, что с мужем, просила принять, объяснить, в чём его обвиняют. Разумеется, никто и не думал нам ничего объяснять.
На первый допрос меня вызвали 18 апреля. В этот день у нас дома и был второй обыск, так что, вернувшись после одной приятной беседы, я как раз застала дома всю эту свору.
Но по порядку. Начну с утра восемнадцатого. В Большой Дом меня провожала Тамара Владимировна. Не утешала, ничего особенного не советовала. Мне запомнилось только: «нет слова «да», есть слово «нет». Помогло. Ни одного разговора за все допросы я не подтвердила. Это, конечно, ничего не решало. Но хоть на совести не лежит.
Прощаясь со мной, Тамара Владимировна протянула мне плитку шоколада. Я удивилась, но взяла.
Как она была права! Потом я каждый раз брала с собой шоколад. Когда уже невмоготу, когда от сидения в кабинете следователя и непрерывных вопросов дуреешь – кусок шоколада и снова какая-то бодрость. Но всё это я поняла позднее. А сейчас, расставшись с Тамарой Владимировной, я вошла в проходную ГБ.
Меня провели по коридорам и оставили в какой-то комнате ждать. Шло время. Было тихо. Только изредка раздавались чьи-то шаги. Неожиданно открылась дверь. Гэбист ввёл жену Толиного приятеля. Ввёл. Посмотрел на меня. Сказал: «Нет, не сюда». И вывел. А я осталась гадать: что бы это значило. С этой женщиной у нас были не слишком тёплые отношения – уж очень мы были разные. И вот, сидя в комнате ожидания, я пыталась разгадать, специально ли её ввели, чтобы дать понять: она здесь и может рассказать то, что бы ты хотела скрыть, или вышла обычная накладка. Так и не поняв, я в конце концов приказала себе не думать об этом, не создавать для себя добавочных проблем. В какой-то степени это удалось.