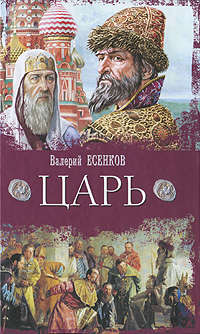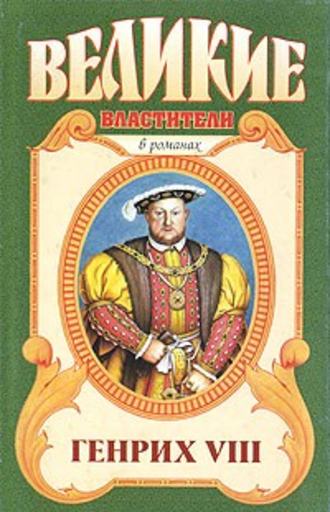
Полная версия
Казнь. Генрих VIII
Генриха поразили секреты отца, прежде ему не известные. Воспитанный такими людьми, как лорд Маунтджой, Колет, Мор и Эразм, он и подумать не мог, чтобы вернуться к финансовым мерам отца. Вымогать деньги у лордов? Обрезать золотую монету? Возвратиться к остроумным рассуждениям Мортона о тех, кто тратит много или тратит мало? Нет, нет и нет. Он обратился к парламенту. Представители нации очень доступно растолковали ему, что было бы верхом несправедливости повысить подати, поскольку масса народа и без того живет в нищете, что было бы верхом недальновидности повысить пошлины на вывоз английских товаров, поскольку они подорожают и на континенте не станут их покупать, и что было бы другим верхом недальновидности понизить ввозные пошлины, поскольку испанские, французские, фламандские товары станут дешевле и вытеснят с английского рынка самих англичан. Он был хорошо образован и не мог этой истины не понять. Всё было верно, а казна оставалась пустой. Все жаждали послаблений, отсрочек и привилегий. Привилегии нужны были лордам, чтобы блистать при дворе. Привилегии были нужны городам, чтобы суконщики, торговцы и финансисты не только бы не терпели убытков. Сельские хозяева тоже хлопотали о привилегиях, в противном случае, толковали они, шерсть и мясо не разойдутся на рынке. Привилегий требовали даже пираты: они хотели грабить на океанских просторах, но не хотели, чтобы их вздергивали за это на рею. И самое непостижимое обнаружилось в том, что все запаслись привилегиями, даже морские разбойники. Привилегий не было только у короля. Казна наполнялась на половину потребностей, даже на треть. О двух миллионах, которые сумел ему оставить отец, оставалось только мечтать. Король становился всё бедней и бедней, и это, похоже, очень нравилось подданных, поскольку богатый король управляет страной, а бедным королем управляет страна.
Очень скоро он догадался, что управляют не идеи, не принципы, не убеждения, как он постоянно слышал от учителя и его ученых друзей, а деньги, что вовремя понял отец. Что же в таком случае идеи, принципы, убеждения? Их придерживаются, пока они выгодны. Их меняют, когда они приносят убытки. Отец был кругом прав, когда говорил, что у всех цель одна: стать выше всех и богаче всех. А потому и король, чтобы править благополучно и долго, должен стать всех богаче.
Ветер дул в спину и нес пыль, поднятую копытами лошадей. Пыль забивалась в ноздри. Генрих чихнул несколько раз и очнулся от своих размышлений. Дорога шла прямо. Сухая погода стояла несколько дней. Он толкнул жеребца. Жеребец недовольно оскалился, но послушно оставил дорогу, поскакал лугом и стал подниматься на холм. На лугу паслись овцы, серые, крупные, с маленькими головками и с толстой шерстью, которую, как он теперь знал, неохотно покупали в Европе. Пастух опирался на посох и, как видно, дремал. Две сторожевые собаки, одинаково черные, с белыми ожерельями на шеях и на хвостах, с злобным лаем бросились вслед. Генрих не обернулся. Солдаты конвоя придержали своих лошадей и плетьми отогнали разъяренных собак. Собаки отстали, всё ещё злобно рыча.
Генрих остановился на вершине холма. Со склона спускалась дубовая роща, сильно поредевшая с тех пор, как он видел её. За ней поднимались башни монастыря. Он тронул поводья. Жеребец двинулся, мягко ступая по густой зеленой траве. Среди дубов там и здесь торчали широкие пни. На каждом из них он мог бы усадить свой конвой. За дубовой рощей он вдруг обнаружил молодые стройные сосенки, насаженные так густо, что их пришлось объезжать. Монастырь открылся за поворотом, массивный, тяжелый, из серого камня, мрачный даже на солнце, заложенный на берегу тихой речки лет триста назад, в знак покаяния, когда король Генрих Второй вынужден был пойти на уступки римскому папе.
Генрих въехал в ворота, которые были распахнуты настежь. Въездная дорога не убиралась несколько месяцев. Боковые аллеи монастырского парка были запущены. Направо от входа стояла часовня. Её стрельчатые окна были не мыты. Прежде над входом стояла Мадонна. Теперь она была сброшена и разбита.
Монастырь охраняли солдаты, в касках с гребнями, в латах, с красными лицами и с туманом в глазах.
Генрих спешился, оставил конвой и вошел. Его шаги гулко раздавались под высокими сводами. Пол был затоптан. В глаза бросались следы запустения. Он прошел коридором, на стенах которого проступали старинные фрески. По сбитым ступеням крутой каменной лестницы, идущей винтом, он спустился в подвал. Подвал был мрачен. Вдоль стены от дверей пылало несколько факелов. В глубине в их трепещущем свете проступали громадные винные бочки, каждая на пятьсот ведер, может быть больше. На передней балке был блок. С него спускалась веревка. На веревке был подвешен аббат, старый, толстый, обнаженный по пояс. Помощник Томаса Кромвеля, присланный вести следствие, сидел за столом и что-то писал при свете толстой восковой монастырской свечи. Генрих сел на скамью у стены. Следователь вскочил и, забыв о приветствии, громко сказал:
– Упорствует. Не выдает.
Аббат висел низко. Руки были вывернуты назад. Босые почернелые ноги почти касались грязного пола. Голова свесилась. Тройной подбородок складками лежал на жирной груди. Лицо было усталым, но всё ещё круглым.
Генрих спросил:
– Хорошее вино?
Аббат разлепил пересохшие губы и чуть слышно сказал:
– Нравится… солдатам… твоим…
– Испанское или французское.
– Французское.
– Прекрасный вкус.
– Для причастия… паломников… прихожан…
– Им оно обходится раз в двадцать дороже. Отличный доход.
– Братии на воду и хлеб.
– И с волоса святого Петра?
– И с него.
– Боже мой, сколько же у бедняги было волос! Если не каждый монастырь кормится его волосами, то каждый второй.
– Он был святой.
– И кусочек креста, на котором распяли Христа? Я думаю, это не крест, а целая дубовая роща.
– Это чудо.
– Мои учителя рассказывали мне кое-что.
– Плохие учителя… еретики…
– И твоя икона излечивает больных?
– Не всегда.
– Только когда тебе надо?
– Бывает, чудо свершается само по себе.
– Тоже немалый доход.
– Монастырь обходится дорого.
– И потому тебе платят за всё: за погребения, за крестины, за свадьбы, за исповедь.
– Платят они добровольно.
– Не совсем, ведь без благословения нельзя ни хоронить, ни родить, ни жениться.
– На то воля Господа… не моя…
– А дубы?
– Какие дубы?
– Роща твоя поредела.
– Много строится кораблей.
– Где же ты прячешь деньги?
– У меня ничего нет.
– Да, ты беден, как крыса. У братии общее всё. Об этом я тоже слыхал.
– Так заповедал Христос.
– Где же казна?
– Она не моя и не твоя.
– Ты прав, она не твоя. Но почему не моя?
– Она монастырская, общая. Была здесь и останется здесь. Я могу висеть, пока не умру.
Генрих сказал:
– Опустите его.
Подручный дернул конец, распустил узел и осторожно ослабил веревку, пока ноги аббата не коснулись каменных плит и снова её закрепил, чтобы аббат мог стоять. Генрих сказал:
– Теперь не висишь. Где же казна?
Аббат потянулся, расправляя застывшее тело, скривился от боли и промолчал, как будто не мог говорить.
Генрих внимательно посмотрел на него и приказал:
– Дайте вина.
Следователь вскочил, нацедил полную кружку и протянул её королю. Генрих поморщился:
– Не мне, а ему.
Аббат сделал несколько жадных глотков и остановился, видимо, не желая пьянеть. Генрих с одобрением посмотрел на него:
– Теперь говори.
Аббат облизнул влажные губы, вздохнул глубоко и уже ясным голосом возразил:
– Не скажу.
– Почему?
– Деньги братии. Ты не имеешь права на них.
– Я король.
– Платить тебе я не обязан.
– Ведь ты платишь римскому папе.
– Он глава церкви.
– Меня признал главой церкви парламент.
– Парламент мне не указ.
– Не король. Не парламент. Кто же тогда?
– Папа и епископ, назначенный им, но не ты.
– Однако, ты подданный английского короля!
– Нет, я подданный римского папы! Только его! Никому другому я не обязан служить!
– А Господу?
– И Господу тоже.
Генрих сделал повелительный жест:
– Поднимите его.
Подручный схватил веревку, резко дернул её. Аббата точно подбросило вверх, но не высоко. Почерневшие пальцы ног слегка касались каменных плит.
– Довольно. Ты выводишь меня из терпения. Где твои деньги?
Аббат кривился от боли в вывихнутых руках, но молчал.
– Где твои деньги?
– У меня нет ничего.
Генрих махнул, и аббата подняли выше.
– Где твои деньги?
Из расширенных глаз аббата выкатились две слезы.
– Где твои деньги?
Молчание выводило Генриха из себя. Он вскочил на ноги и закричал:
– Хорошо! Я уйду! Он возьмет паклю, вымочит в масле, положит на темя тебе и подожжет. Так вы пытаете еретиков. Посмотрим, понравится ли это тебе.
Лицо аббата исказилось от ужаса. Он прохрипел:
– Хорошо. Я скажу.
– Опустите его. Говори.
– В моей келье… Фреска на задней стене… Рожденье Христа… Справ из ясель на Спасителя смотрит бычок… Нажмите на рог…
Следователь вскочил и крикнул солдат. По ступеням лестницы застучали их сапоги.
Генрих презрительно усмехнулся:
– Вот видишь, как это просто. Из чего было мучить себя. В самом деле, служи Господу, а не золотому тельцу.
Он медленно поднялся по лестнице, прошел коридором и вышел во двор. Солнце сияло. Шумели старые липы. Было тепло и легко. Он сел на скамью и сидел неподвижно, не думая ни о чем. Только сердце неровно билось в груди. Так прошло с полчаса. Следователь вышел и доложил:
– Золота в слитках и утвари на глаз фунтов до ста. Серебро, тоже на глаз, фунтов четыреста или пятьсот. Алмазы, изумруды, опалы надо считать.
Генрих поднялся, тяжело и неловко:
– Считайте…
Пошел к жеребцу, стоявшему у коновязи. Сам отвязал повод. Сам поднялся в седло. Пробормотал:
– Господу служит… Терпеть не могу…
Ссутулился и толкнул жеребца. За ним потянулся конвой.
Они выехали из монастырского парка, миновали сосновый лесок и въехали в дубовую рощу. Под старым дубом стоял спокойно и стройно олень. Здесь право охоты принадлежало монахам. Монахи охотились редко, и всадники не испугали оленя.
Генрих оживился, обернулся, вытянул правую руку. Начальник конвоя дал шпоры коню, подскочил, подал, зная привычки своего повелителя, лук и стрелу. Генрих быстро и ловко натянул тетиву. Стрела коротко свистнула. Олень вздрогнул, пал на колени и медленно завалился на бок. Генрих точно проснулся, поглядел на него с сожалением и поскакал.
Глава четвертая
Выбор
Томас Мор опустился на корточки и прислонился к стене, изнеможенный, истощенный душой. Он цепенел, обмирал, ничего не видел перед собой. Пламя факела, забытого Кромвелем, почти не достигало его. По застылому худому лицу бродили бледные отсветы. Оно было сосредоточенным и угрюмым. Глаза не мигая глядели перед собой в черноту. Чернота расплывалась, медленно двигалась, точно кружилась, покрывая все предметы вокруг то распадавшейся, то непроницаемой пеленой. Временами он вдруг выходил из тупого оцепенения, вспоминая о том, что ещё не ушел, что, покуда он жив, для Томаса Кромвеля не будет простора. Ради этого было необходимо остаться, и оправданной представлялась любая цена. Тогда глаза его испуганно расширялись, что-то различая в прорехи распадавшейся пелены, рот удивленно, расслабленно раскрывался, часто и со свистом втягивая в себя промозглый, точно негнущийся воздух.
Так вздыхал он несколько раз и вдруг принимался думать о том, что Томас Кромвель послан был королем, иначе быть не могло, а если так было, он ещё успел бы попросить о помиловании. Рано ликовал Томас Кромвель, хладнокровный убийца: он бы остался, он бы что-нибудь сделал, чтобы остановить новую кровь и новый разбой. Но если он попросит помилования, он станет себя презирать, ему будет нечем и не за чем жить. И вновь глаза упирались в непроглядную черноту, губы плотно сжимались, грубо проваливаясь в углах, выражая то ли бессилие духа, то ли презрение ко всему.
И вдруг он усмехался брезгливо, нехорошо, подумав о том, что нужна, ещё, должно быть, нужна его жизнь.
Для чего?
И вновь хватал склизлый негнущийся воздух распахнутым ртом.
Так сидел он на корточках, опираясь привычно на пятки, как сиживал часто, погружаясь в раздумье. Когда же ноги его затекали, он шевелился бездумно, тоже привычно, вытягивал их, не ощущая удовольствия затихающей боли, и опускался на каменный пол, запрокинувши голову, прижимаясь затылком к стене. Мерзким холодом тянуло от каменных плит. Сыростью стены постепенно набухала одежда, потерявшая форму от долгого заточения.
Да, в этом было всё дело: испросив милость у короля, он бы сохранил только жизнь тела, но стал бы предателем себя самого, подлецом и по этой причине таким же слабым, таким же податливым и бессильным, как все, кто давно уже предал и продал себя. Он был бы унижен и презрен. Он презирал бы себя. Какой соблазнительный был бы пример… Очищение церкви? Истинно христианское благочестие? Мечтанья о равенстве, о братской, истинно христианской любви? Всё тогда было бы вздор…
Факел вдруг зашипел, задергалось, пышно чадя, потемневшее пламя, точно предупреждая его, и внезапно исчезло совсем. Остался тлеть один уголек, да и тот истощился и скоро угас.
Томас Мор сидел в полутьме. Светлое июльское утро искоса заглядывало в окно, глубоко сидевшее в толще крепости, приспособленной под тюрьму. Его ноги застыли. По телу пробегала зябкая дрожь. Ему следовало встать и согреться ходьбой, но он подумал об этом лишь вскользь и тотчас об этом забыл.
Жить презренным он не хотел. Лучше было сидеть неподвижно, замерзнуть, застыть. Он сжался в комок, обхватив руками колени, а мысли его полетели туда, где уже не было и быть не могло ничего.
Наконец он очнулся, не сразу поняв, что с ним стряслось, где он был, какое время отсутствовал или думал о чем. Он недоверчиво оглядывал близкие стены и сгустившийся мрак по углам.
Ему смутно припомнилось явление Томаса Кромвеля, или оно привиделось только ему, и в этом сне он слышал какие-то крики, какие-то угрозы и пошлое хвастовство.
Вдруг с новой силой вспыхнули слова приговора.
Только день, только ночь оставляли ему.
Заутро ждала его смерть.
Может быть, при мысли о ней он и впал в забытье?
Тут он по-настоящему испугался, решив, что именно подлый страх смерти довел его до беспамятства.
Если так, выходило, что он сомневался в себе, что он не был готов.
Не двинувшись с места, он медленно поднял ослабевшую руку и дернул, как мог, свою отросшую длинную бороду.
Прежде у него не было никакой бороды. Она отросла у него в заточении. Он к ней привыкнуть не мог. Она мешала ему. Он частенько дергал её, точно хотел оторвать. Это сделалось его новой, тюремной привычкой.
Именно сомнение было в эти неуместно, опасно, запрещено. Своей неопределенностью, ещё больше своей неожиданностью оно смущало, запутывало его.
Он никогда ничего не боялся. Смерть пугала его всего меньше. Слишком давно приучил он себя к мысли о ней, и она представлялась ему продолжением жизни, как должен верит христианин и мудрец.
Его решения всегда бывали обдуманны, тверды. О своих делах и поступках он никогда не жалел.
Ещё час назад его судьба представлялась решенной и ясной.
Почему же он вдруг всколебался?
Он дивился себе. Он возмущался собой. Ибо мысль дана человеку, чтобы проникать в суть вещей и предвидеть движенье событий. Слабость же мысли, неуменье предвидеть унижала его.
Его возмущение было сильным и гневным, когда бывало всегда, хотя его лицо оставалось невозмутимым. Он пощипывал жидкую бороду и едва слышным шепотом говорил сам себе:
– Я знаю тебе много лет и уверен, что ты уйдешь, как подобает уходить человеку. В порядке вещей, что тебе не хочется уходить: в тебе ещё так силен голос живого, и от этого голоса не избавишься, пока жив, как ни старайся взять себя в руки, что себе ни тверди. Однако в свой час ты одолеешь его усилием воли и покинешь без сожаления эту юдоль печали. Жизнь не стоит того, чтобы ей дорожить.
Он не помнил, с каких пор приучился рассуждать сам с собой, оставаясь один. Привычка сложилась давно. Возможно, он с ней родился. Всё могло быть. Хорошо, что она была у него: рассуждая с собой, он смирял и утихомиривал страсти.
Он невольно прислушивался к своему тихому шелестящему голосу, заставляя себя следить за развитием мысли, и порядок устанавливался в его рассуждениях, как учили философы древних времен. Одно заключение по незыблемым правилам Аристотеля, усвоенным с самого детства, необходимо рождало другое. Эта последовательность убеждала и успокаивала его, подчиняя рассудку вскипевшие страсти.
Напомнив себе, что жизнь не стоит того, чтобы выть собакой от страха её потерять и позорно хвататься дрожащими пальцами за топор палача, он уже без труда заключил, что решения его неизменны.
Это был испытанный, славный прием. Возмущение в нем остывало. Он мог бы совсем успокоиться, ведь ему предстояли кое-какие будничные дела, которые необходимо было исполнить, перед тем, как уйти навсегда.
Он напомнил себе ещё раз:
– Разнообразны вкусы людей, капризны характеры, природа их в высшей степени неблагодарна, а суждения доходят до полной нелепости. Вот почему счастливее, по-видимому, чувствуют себя те, кто приятно и весело живет в свое удовольствие, нежели те, кто терзает себя заботой о ближних.
И уже хладнокровно стал думать о том, как приготовить тело свое, чтобы оно в пристойном виде поступило в равнодушные руки могильщиков, которые не станут заботиться о его чистоте: им всё едино, лишь бы поскорее сбыть его с рук.
Он пожалел, что не может омыться в лохани с горячей водой, с мочалом и мылом. Даже чистой одежды не имелось у него под рукой.
Как он ни поворачивал, как ни вертел, а всё выходило, что хлопот с бренным телом не мог быть никаких.
Что ж, всё быстро убегавшее время посвятит он бессмертной душе, неторопливыми размышлениями о непреходящем, о вечном, чистосердечной молитвой умиротворяя и очищая её.
Уже завтра душа его встретится с Богом.
А душа была неясна, нелегка. Ему было о чем размышлять и молиться. Тоска сомнений то упадала, то вновь росла, как он ни отбрасывал их, доказывая себе, в сотый, в тысячный раз, что сомнений быть не могло, да и не ко времени, поздно уже.
Тоска рождала острое недовольство собой, хотя в недовольстве собой он не обнаруживал ни малейшего смысла.
В самом деле, и страхом смерти не сломили, не покорили его.
Чем же быть ему не довольным?
Покой души, верно, нарушило что-то иное, чем-то пока неприметным разбередило её. Вот что надо было понять. Лишь после этого чистосердечной и тихой должна стать молитва.
Не чувствуя холода, прижимаясь к влажной стене, склонив лохматую голову, он раздраженно спросил, с новой пристальностью вглядываясь в себя:
– Чего же тоскуешь ты? Чем помешал тебе Томас Кромвель? Давно уж покинул тебя, и следа от него не осталось! Так что?
Не находя разумной причины, опасаясь невольно, что это всего лишь низменный страх, ужас боли и смерти, особенно боли, которая в таком преизбытке предстояла ему. Он понимал, что если он прав, страх станет только сильней, не справься он тотчас же с ним, и нерешительно, смутно угадывал, что причина томления все-таки в чем-то ином.
Тогда он несколько раз повторил:
– Твоя смерть должна быть достойна тебя.
Он увидел теперь, что в этом не имелось сомнений, что иначе это и быть не могло, ибо малейшая слабость, губы дрогнут, глазом сморгнет, погубит всё то, во имя чего он шел под топор.
Это так… Это так…
Однако по-прежнему что-то словно бы опаленное, в то же время верткое, неуловимое, скользкое как будто самолюбиво или с каким-то укором ныло и ныло в душе, наконец заставив подумать, что он, всегда искренний и прямой, нынче сделался не откровенным с собой. Пальцы двинулись беспокойно, точно он ими чего-то искал. Тогда он сказал, сдвигая брови, стараясь хоть так успокоить себя:
– Этот шут опротивел тебе своим дурацким кривляньем.
Он услыхал свой напряженный, неуверенный голос и понял, что это было не то, что в самом непредвиденном, странном появлении Томаса Кромвеля в его заточении, крикливо и с таким шумом взгромождаясь на место, которое он добровольно, обдуманно освобождал, скрывалась какая-то тайна, чем, как внутренний голос шептал, опасная для него. Он припомнил, иронически ухмыльнувшись, презрительно дергая головой:
– Болтал о могуществе, шут.
И после минуты молчанья прибавил не то с угрозой, не с состраданием мудреца:
– Червь земной. Трусливый, но жадный. Тем опасный для всех. Во все времена.
И чужим властным голосом прямо спросил:
– Что в том, что ты уйдешь, как философ?
Он встрепенулся и выпрямился. Заныли косточки пальцев, стиснувших подбородок. Новый запрос, упавший в мертвую тишину, оказался определенней, ясней:
– Должен ли ты умереть, хоть философом, хоть последней собакой, если отыщется дорога к спасению?
Запрос ударил его. Лицо побледнело до колючих мурашек. Во всем его существе всплеснулись неизжитые силы, которых бы стало на много лет для жизни и для борьбы, если бы открылась возможность жить и бороться. Здоровье, источник энергии, ещё не было подорвано. Мозг работал великолепно, как прежде.
Всё в нем возмущенно заклокотало, и голос, дрожа, едва поспевал вопрошать:
– К чему упрямство? Скажи мне, к чему?!
Странно: он точно искал путей к отступлению, лишь бы сохранить себе жизнь, что было противно его убеждениям. Но тотчас ободрился, точно помолодел на несколько лет. Тоска отодвинулась в сторону, почти забывшись совсем, хотя прилегла где-то рядом. Посветлело в душе. Крепкая память выплеснула знакомые мысли. Голос сделался раздумчивей и ясней:
– Трасея говаривал: «Лучше казнь сегодня, чем изгнание завтра». Что же Руф ему на это сказал? А Руф сказал: «Если ты выбираешь это как более тяжелое, что за глупый выбор? А если как более легкое, кто дал такое право тебе? Не хочешь ли ты приучать себя довольствоваться тем, что есть?»
Он выпрямился, оторвавшись усталой спиной от холодной стены, подобрался и глаза его вспыхнули быстрым огнем.
Тоска в тот же миг провалилась куда-то. Сомнения сгинули. Твердость затеплилась от поучения древнего мудреца. Полетели, радостно, запрыгав, слова:
– Да! Примириться с тем, что от тебя не зависит, потому, что не определяется, не управляется слабой волей твоей! Не искать себе жизни во внешнем! И жить, ещё долго жить! Жить тихо, сосредоточенно, скромно. Дышать душистым воздухом милых полей и запахом сена, навевающим сладкую грусть. Подолгу шагать перелесками. Неторопливо возвращаться к обеду. Ещё неторопливей размышлять о непреходящем, о вечном. Подолгу беседовать с Богом. Находить счастье лишь в том, что зависит от тебя самого!
Для такой жизни он был создан природой. Именно такая скромная, такая мирная жизнь была ему по душе. Несколько раз случалось ему жизнь этой жизнью. Не подолгу, а всё же случалось. Это было самое счастливое время его. Из того милого прошлого так и пахнуло теплом, семейным уютом, лаской детей и светлой печалью разлуки. Губы, невидимые, непривычно скрытые волосами, раздвинулись в неловкой улыбке. Пошевелилась поросль усов. Глаза стали влажными, добрыми и большими. Отчего это? Что с ним? А уж приблизилось и замелькало перед глазами: ограда, невысокий дом на высоком холме, во все стороны луга и поля, тропинка, дорога, берег реки. Ради той жизни, мирной и скромной, он построил свой остров, на котором царили тишина и покой, жили сердечные, добрые, любимые люди. На том острове, как поудобней, чуть в стороне, стоял маленький флигель. Во флигеле помещался его кабинет. В кабинете на полках по стенам стояли бесценные книги. Рукопись покоилась на простом прямоугольном столе. Рукопись всё ещё была не окончена. Он мог бы неторопливо, обдуманно окончить её, а после неё начать и другую. Замыслы роились в его голове. Разве то не был бы нужный, полезный, пусть для немногих читателей, труд? Учащенно дыша, протягивая руку к кому-то вперед, он почти грубо спросил:
– Разве ты не сделал для ближних, что мог? Исключительно всё? Даже больше?
Вечно жил он против своих природных влечений. Бесприютно, нехорошо. Принуждая себя, как велел ему разум, как велел ему долг. На свой остров заглядывал редко. Передохнуть день-другой. Погладить по головке детей. Улыбнуться молчаливой жене. Собраться с духом и снова уйти. Не честолюбие, не жажда богатства, не суетность власти привели его к королю. Он не выпрашивал ни денег, ни мест, ни чинов. Должность канцлера ему предложил сам король. Он это предложение принял, чтобы исполнить свой долг перед ближними, то есть перед страной.
Помнится, он воротился тогда из Камбре, усталый, но довольный собой. Он привез мир, которого король не хотел. Он улыбался, несмотря на то, что ему полагалась опала. Не мог же он этого не понимать, нарушив повеление короля. Она не страшила его, ибо он выполнил долг. Всё приключилось так неожиданно. Кардинал и прежний канцлер Уолси обвинен был в измене и получил приказ короля об отставке. Мир, заключенный в Камбре, неожиданно понравился королю. Что-то слепое, капризное, шутовское таилось, что свершалось там, в Камбре, и в Лондоне, здесь.