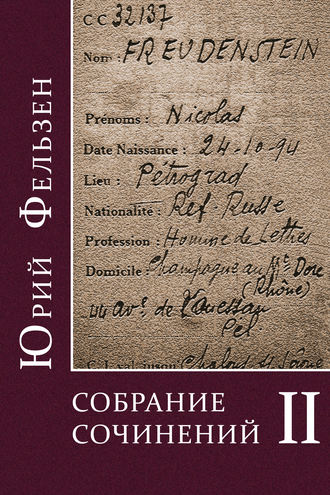
Полная версия
Собрание сочинений. Том II
Как ни странно, мне с вами привычнее и «удобнее» из-за вашей теперешней полусмущенной враждебности, из-за вернувшейся моей боязни вас лишиться, из-за чего-то знакомо-обидного, что мной угадывалось и раньше – в подозрительной уклончивости ваших писем: в них проскальзывали похвалы каким-то неведомым друзьям, сухость тона явно умышленно скрашивалась неубедительной нежностью окончаний, да и самое откладывание вашего приезда (несмотря на благоразумные предлоги о квартире, деньгах и здоровьи) не могло быть невинным и случайным и меня постепенно готовило к безнадежности или борьбе. На вокзале появились и эти, неизвестные мне, друзья, нарушив интимность и обаяние встречи, разумеется, с вашего согласия (уже неоспоримое доказательство глубокой вашей отчужденности), и я сразу же вспомнил, как вас летом один провожал, и то, что невольно забыл отметить в тогдашнем болезненном своем возбуждении: вы сперва дельно и трезво нашли заказанное спальное место, переменили его на нижнее, умело сговорившись с кондуктором, аккуратно сосчитали вещи, проверили часы – и затем лишь позволили себе растрогаться. И всё же я тогда не обманывался, и ваша обычная осмотрительность не предвещала отрыва или ухода, а эти бесконечные месяцы и эти вежливые молодые люди вас, пожалуй, от меня и отучили и увели.
Правда, ваши приятели заранее выехали из Канн, чтобы снять вам квартиру по вашей же просьбе, и, значит, им следовало быть на вокзале, вас как-то устроить и куда-то направить, но мне это представилось еще оскорбительнее, чем неудавшаяся наша встреча: я по-детски обиженно задавал себе вопросы (упиваясь их безответностью и вашей несправедливостью) – почему вы не поручили хлопот и поисков мне, разве я вам не ближе, не услужливей и внимательней, разве с точностью не знаю ваших истинных вкусов. Вы, по-видимому, не совсем ко мне охладели, что-то поняли и постарались меня успокоить, шутливо заявив о моем равнодушии к обстановке, о моей лени, о вашем нежелании напрасно меня утруждать, и вскоре я убедился в несомненной вашей правоте: «дельные мальчики» (как вы их благодарно и весело окрестили) отвезли нас по новому адресу, познакомили с консьержкой, показали квартиру, старомодно-буржуазно-уютную, и затем с милой дискретностью нас оставили вдвоем, и пока вы перемещали кресла, развешивали картины, я (пытаясь быть полезным, вбивая какие-то гвозди) нетерпеливо и мрачно возмущался этой будто бы ненужной суетой – мне действительно безразлична была всякая обстановка, если она некрикливая и хоть немного удобная, я слеп ко всему, что не волнует, что непосредственно не живет, что не люди, не души, не любовь, и (продолжая вам помогать) ждал одного, когда вы кончите «суетиться», когда мы усядемся и поговорим.
Но квартира мне понравилась больше вашей прежней пансионской комнаты (хотя и предвидел ее будущую для меня враждебность), да и то, что вы задумали и выполнили, было, как всегда, практически-толково и правильно – вам не пришлось из вагона переехать в отель, и вы сразу избавились от необходимой скучной работы. Порядок вы навели по собственному счастливому вкусу: от каких-то незначительных, произвольно-капризных перемещений всё в квартире словно бы ожило, она потеряла свою «меблированную» безличность, и мне это стало ясно, несмотря на мою неизменную к внешнему слепоту. Мы сидели в приемной (вы ее называете гостиной), я на низком удобном кресле, как-то вытянувшись во всю длину, вы – подобрав ноги – на огромной тахте, окруженная подушками, неподвижно-спокойно-мечтательная, и меня охватило (именно под влиянием обстановки) ощущение лени, беспечности, полусонного благополучия, вопреки дурной очевидности и явным признакам беды. Ненадолго вернулось иллюзорное равнодушие, сопровождавшее ваши прежние возвращения, появилась и та искусственная неловкая оживленность, которою мы (от усилий, от нервности, от разбега) обычно пытались маскировать первоначальное это равнодушие, были также и случайно произнесенные слова, ошибочно принимаемые за нечто решающее и нужное, и у меня вылетела из памяти дальнейшая, неизбежная и столь мне знакомая последовательность – как понемногу возникает нам свойственная дружеская нестеснительность, затем постоянная моя потребность быть около вас, переходящая в неистовую жадность ко времени с вами, в беззащитную и рабскую зависимость. Но главное, о чем я забыл, себя считая забронированным от боли, доверившись неискренней, поверхностной и веселой болтовне – это о темном своем страхе, уже пробудившем готовность мучиться и ревновать. Мы ужинали в низенькой столовой, загроможденной буфетами, столиками, сервизами, приветливая морщинистая бретонка нам подала всё, что полагается в добропорядочной французской семье, но я с ложным умилением (однако при вашей поддержке) вспоминал и неумеренно хвалил наши «бутербродные» пансионские ужины. Как и в некоторых других скромно-буржуазных парижских квартирах, из столовой на кухню ведет коридор, с дверью в широкую спальню, где вы на целый час уединились, куда не позвали меня (еще крохотный укол) и откуда вышли принаряженной, сияюще-освеженной: вечером ожидались гости – ваши «дельные мальчики» (вас почему-то особенно тронуло, что они позаботились о прислуге) и Рита с Шурой, недавно поженившиеся.
Шура нашел «командитэра», чтобы основать собственное дело, небольшой «франко-русский» ресторан – открытие должно состояться через несколько дней, и сейчас у обоих супругов последние свободные вечера. Я Шуре давно предсказал коммерческий успех, для чего особенной проницательности не требовалось. Разумеется, и он, и Рита поглощены своим новым предприятием, говорят лишь о цифрах, о «конъюнктуре», которая «портится», с нами советуются, на какую рассчитывать публику, иностранную или русскую, богатую или среднюю (словно мы исключительно заняты их судьбой), и в Шурином покровительственном отношении к жене порою чувствуется бережливая «хозяйственная» нежность, сознание, что она – его незаменимая помощница. Ваши приятели, почти не скрывая, над ними посмеиваются, и Шура немедленно это уловил, но со свойственной ему житейской дальновидностью и гибкостью не стал возражать вероятным будущим клиентам и сам, применившись, усвоил распущенно-шутливый их тон. Я начал к ним присматриваться, пытаясь угадать, кто из них «соперник» или даже «похититель» – ведь многое от меня ускользнуло за месяцы вашего отсутствия. Они старинная неразлучная пара – я смутно, до вас еще, слыхал, что всюду зовут их «Павликом и Петриком» и что один без другого не появляется (им приписывали и «порочные наклонности», объясняющие непонятную их близость, однако теперь эти «модные» сплетни часто распускаются без малейшего основания). Я так и не решил, кого мне надо опасаться – вы были с ними приветливо-ровной, а безотчетная моя неприязнь к Петрику не означает, будто я что-либо угадал: просто мне он представился насмешливым до наглости, самонадеянно-заносчиво-развязным, и я искал, к чему бы придраться и чем бы позлее его задеть, и глухо досадовал на свою ненаходчивость. Они пришли, напудренные, во фраках (из-за какого-то «меценатского раута»), и нас мгновенно подавили бело-черным слепящим блеском, фамильярными суждениями о знаменитостях, перескакиваньем с темы на тему, особым щегольством цинически-изысканных фраз, быть может, принятых в загадочном их кругу: во всякой «элите» (истинной и поддельной), во всяком презрительно-замкнутом кругу свое разговорное щегольство – от церемонной светскости или торжественных вещаний до намеренно-издевательской грубости – оно оглушает восторженных новичков и кажется недосягаемо-трудным, затем перенимается незаметно-легко, придает нашей речи послушную, стройную гладкость и, в сущности, ее обезличивает подражательной словесной игрой.
Я понемногу с вашими приятелями освоился и молча сидел, их разглядывая и сравнивая между собой: мой инстинкт любознательности пробуждается не от первого знакомства, а от внезапного наводящего толчка, и этим неожиданным толчком для сопоставления ваших друзей оказалось одно случайное обстоятельство – насколько до мелочей совпадало парадное их великолепие, невольно отнявшее у обоих непохожие, но как бы родственные черты. Меня действительно в их внешности поразило то неуловимое сближающее несходство, которое бывает иногда у супругов, у компаньонов, у людей почти не расстающихся и постепенно приспособившихся к совместной жизни или работе. Основное у Петрика – удлиненность, облагораживающая худобу, бледная яркость, лучистые серые глаза, слишком тонкие, выхоленные руки и вспышками резкий, по-детски взвизгивающий смех. Павлик обыкновеннее – округлое, чуть румяное благообразие, возможная в будущем полнота при сохранившейся еще пропорциональности линий и упругости, тоже серые, но тускловато-мягкие глаза и пухлые ручки с коротенькими безвольными ноготками. Всё это сглаживается одинаковостью роста (моего – средне-высокого) и старательно прилизанной подтянутостью, а также необычайной моложавостью, хотя Павлику около тридцати лет и он взрослее, уравновешеннее Петрика: я теперь лишь по достоинству оценил вашу похвалу – «дельные мальчики» – и не без горечи припомнил давнишнее собственное замечание – после вашего романа с Бобкой – о «вечных мальчиках», вам нравящихся (вы, улыбаясь, тогда возразили, что к ним причисляете и меня).
Новые гости сперва держались презрительно в стороне, обмениваясь чуждыми нам сенсациями (и к нам ни разу не обратившись, как будто мы «не доросли»), говоря о картинах, о торговцах, о щедром лондонском богаче: Петрик в свои двадцать четыре года уже нашумевший художник, и цветисто-многословные здешние критики считают его надеждой и чудом. Мне всё менее «импонируют» успех и талант, а такая наглядная профессиональная беззастенчивость для меня просто кощунственно-оскорбительна, хотя нередко под нею прячется стыдливая одержимость своим призванием. В этом обычно вы со мною сходитесь – вам нужно, как и мне, таинственное «внутреннее содержание», что, пожалуй, гадательно и меня возвышает: ведь я приписываю себе какие-то непроявленные силы и в чем-то беззастенчивее, самонадеяннее Петрика. Но ваше недоверие к успеху – признак душевной независимости и осторожного, справедливого, неженского ума – и если в данном случае вы не останетесь беспристрастной, вас нетрудно понять (и особенно мне) и найти объяснение в любовной вашей слабости. У меня самого стремительно возникает ответное, влюбленное, словно бы женское пристрастие: я заранее осуждаю ваше предполагаемое восхищение, его пытаюсь опровергнуть и свою придирчивость обосновать, причем – не умея разбираться в картинах, зная о Петрике из газет – выискиваю у него человеческие недостатки, но это косвенно роняет и неизвестные мне картины. Я вам хотел бы доказать, что ваши друзья – карьеристы и снобы, что главная цель их – общественно подняться, пролезть в очередной, им запретный круг (где, даже сомнительно утвердившись, они забывают о предыдущем), что их «нуворишское» чванство на вас предельно не похоже и, следовательно, вам с ними не по пути, при всей вашей упрямой ослепленности: вы настолько значительнее всякой среды, в которую нечаянно попадаете, и всяких «кастовых» соревнований, что их не видите и не гордитесь какой-либо местнической своей победой и своим отраженным, заемным блеском – не потому ли со всеми вы одинаково любезны, с несознаваемо-скрытым оттенком превосходства и снисходительности. Впрочем, нельзя так безрассудно поддаваться воображению – порабощенная им реальность восстает и мстит за себя, и это сейчас же, неоспоримо, на мне подтвердилось. Быть может, я вас и не очень перехвалил, зато ваших приятелей необоснованно и чрезмерно унизил своей, к ним примененной теорией о снобизме, опять-таки непроверенной и подражательно-беспощадной – и вот искусственно получилось огромное несоответствие, лишь растравляющее мою обиду назойливой мыслью, что вы предали меня ради недостойных вас людей. Напротив, отрешившись от предвзятости и негодования, успокоительно думать, что ваши друзья – совсем не «выскочки», не «пустозвонные болтуны», как я бы охотно их обозвал, при несомненном сочувствии Риты и Шуры (у нас робкий и молчаливый «тройственный союз»). И действительно, Петрик добился успеха – очевидно, как и другие – вдохновением и упорством, он, естественно, увлечен профессиональными вопросами, у него изящные движения и аристократическое имя (Стеблины – богатая московская знать), Павлик Ольшевский, кажется, воспитан и образован и «на прекрасном счету» в какой-то фильмовой конторе (по вашим словам, намекающим на житейскую мою непригодность), а в дальнейшем обнаружилась и его неожиданно-милая талантливость.
Вы предложили ему что-либо спеть. Он, не ломаясь, немедленно уселся за рояль и послушно-вопросительно на вас посмотрел. «Для начала спой “Бублички”, это пока не приелось, хотя скоро нас будет изводить», – посоветовал Петрик, и вы его радостно поддержали. Павлик задумчиво, как бы рассеянно заиграл, и его пухло-вялые, неловкие пальцы, казалось, любовно гладили каждую ноту, создавая нежно-певучие звуки, не отвечавшие грубому надрыву частушечной жалобы. Он и поет по-своему, чуть-чуть однообразно, однако, проникновенно, голосом мягко-высоким, печальным, усталым, не меняя тона, не напрягаясь, не доходя до шепота и лишь осторожно подчеркивая отдельные фразы, как их нередко подчеркивают поэты, читающие своистихи. Первые звуки у него рождаются словно бы из воздуха, и в комнате что-то непонятное протяжно-долго звенит. Так иногда напевают женщины, еле слышно, про себя, вызывая полувлюбленный таинственный отклик – эта мысль меня вдруг жестоко и трезво перевела на внезапное подозрение об истинном сопернике, но я еще не успел втянуться в постоянную о вас тревогу и беспечно отмахнулся от неприятного, несносного подозрения.
Он спел еще несколько романсов, каждому известных, и среди них старинный цыганский – «Расставаясь, она говорила», – которого я прежде не слыхал и в котором почему-то меня тронули слова: «Одному лишь тебе дозволяла целовать мои смуглые плечи», – и особенно тронуло всё заключение:
Для тебя одного покраснею,Покраснею пред светом суровым,Для тебя поклянусь… и солгу яИ слезой, и улыбкой, и словом.Я порою нахожу неизъяснимую прелесть не только в цыганской или русской песне, но и в любой мелодической легковесной музыке, прелесть и непосредственную, и какого-то косвенного воздействия, какой-то нужной помощи извне моему усыпленному вдохновению: мне представляется, что именно такая, не настоящая, не длительно-властная музыка помогает «пустить на волю» напряженно-скованные творческие наши силы, как и сценическая, однако литературно-плохая пьеса дает актеру возможность развернуться, свободно выразить себя и свое – он не подавлен и не стеснен навязчиво-личной авторской волей, и есть канва, есть готовое подталкивание и движение. Смутно пытаясь вам передать свой внутренний жар и, вероятно, полусознательно к вам подлаживаясь, я начал неумеренно хвалить выигрышные места последнего романса (как хорошо «дозволяла», а не «позволяла», еще убедительнее «для тебя поклянусь и солгу я») и незаметно вашу благосклонность «купил»: вы дружественно-экзальтированно со мной согласились, причем было ясно, что это относится не ко мне, что это лишь признательность за мои похвалы вашему гостю. Вы даже с мольбой ему сказали под конец, когда он тихонько опустил крышку рояля, – «Будьте добреньким, спойте мне “Бублички”, ну пожалуйста, не надо упрямиться», – и я, возбужденный всем предыдущим, упиваясь текучестью напева, на минуту поверил далекому видению:
Ночь надвигается,Фонарь шатается,Свет проливаетсяВ ночную мглу.……………….И в ночь ненастнуюМеня, несчастную,Торговку частную,Ты пожалей.Я поддался, как в пьяном забытьи, наивно-мечтательным предположениям, что, может быть, теперь «вся Россия» – в деревнях, на городских улицах, в московских пивных – распевает эти разгульно-тяжелые слова (пускай фальшиво-простонародные), которые с ней полнее отождествляются, чем газетные описания, советские книги, свидетельские рассказы, и у меня появилось редкое чувство теплой и сладостной общности с непостижимой, давно меня выбросившей страной. Я это попробовал объяснить – конечно, спокойнее и суше – неожиданно, Павлик вызывающе, словно поддразнивая, меня прервал:
– Видите, там и в пустяках люди умеют создавать новое, а здесь ровным счетом ничего.
Я мгновенно вспылил от его заносчивости: мое неслучайное беженство, «кожное» отвращение к большевикам по жестоким собственным воспоминаниям, подогретым столькими позднейшими событиями, неизбежное преувеличение европейской добросовестности и скромности (в противоположность «их» шальной самонадеянности) – все это постепенно укрепило эмигрантскую мою непреклонность, но обычно, в зависимости от собеседника, я бываю то благодушнее, то раздражительнее, и Павлик нечаянно меня оттолкнул в сторону нетерпимости и резкости.
– А что же там еще создают нового?
– Пятилетка – вам мало?
– Да, просто удивительно – строят фабрики и дома. Но если правда, что целый народ поклоняется каким-то постройкам, то уж признайтесь, вера не возвышенная и народ скорее бездуховный.
– Не забудьте, это – средство, а цель высокая и прекрасная…
– Благополучие, разумеется, необходимое и которого пока всё меньше. И как же хотят к нему прийти – людей превращают в стадо, а для стада подыскивают пастбище.
Внезапно Шура – побледнев и нарушая свою прежнюю осмотрительность – заговорил незнакомым, глухим, ненавидящим голосом:
– Бросьте спорить, одно правильное решение – мое. Большевиков я расстреливал и буду расстреливать.
Петрик, не вмешиваясь в разговор, сокрушенно-злорадно покачал головою, и я растерялся, открыв, что Шура мне так же непонятен, как эти благонамеренно-буржуазные счастливчики, ради позы и современности притворяющиеся большевиками и кое в чем инстинктивно-прозорливые – наше время действительно с Шурой и с ними, а я и немногие мои сверстники, мы в прошлом или в далеком будущем и у младших поддержки не найдем. Даже вы оказались не за меня и после долгого неучастия в споре укоризненно прошептали мне: «Стыдно!» – как будто не Шура, но я собирался кого-то расстреливать. Вы и должны были меня осудить, следуя женским своим пристрастиям и не вникая в существо расхождения – и, конечно, любовная обида (а не сознание вашей неправоты) вызвала гневный мой внутренний отпор, и мне стоило неимоверных усилий привести доводы менее крайние, чем у Шуры, но тон запальчивости мои усилия выдавал:
– Я вовсе не за кровную месть, но почему «они» первые могут убивать. А Шура напрасно себя чернит. Он не расстреливал, он только защищался.
– Не знаю, как белые, а «они» могут и смеют. У них есть, во имя чего…
– Предположим, они ведут или уверены, что ведут к добру. Но разве можно идти к добру через зло. Ведь нельзя же количественно измерять – меньшее зло ради большего добра. А главное, нельзя в то же время любить и ненавидеть.
Это – мое давнишнее постоянное возражение (неотразимо для меня убедительное, всяким сторонникам беспощадной «борьбы за идею» и разумно-полезного истребления побежденных. Мне показалось, что «вопрос исчерпан», но Петрик с нежной улыбкой заявил (я мельком подумал – «иезуитская улыбка»):
– Ваше благородство похвально и достойно, однако, достойнее всего простой здравый смысл. Количественной разницей не следует пренебрегать, и мы всегда что-то выбираем и чем-то жертвуем. Но «там» есть и качество, и духовность, которую вы отрицаете.
Петрик назвал советские литературные имена, и мы опять стали спорить – бестолково и раздраженно – повторяя всем известные слова о творчестве и свободе, о эмигрантской нашей оторванности, причем каждый из нас, поневоле, отмечал лишь чужие оплошности и проникался неуважением к собеседнику. К нам присоединился Павлик, сейчас же запутавшийся в цитатах и заглавиях книг, и я использовал сравнительную свою осведомленность, чтобы высмеять обоих своих противников и намекнуть на их «комсомольскую» наивность. Петрик, нисколько этим не смущаясь, напал на меня и на мои «западнические тенденции» – с прежней, милой, детской улыбкой:
– Вы, к сожалению, не единственный, у кого стариковский испорченный вкус. Вам, конечно, нравится «французская кухня», ее переутонченные блюда, увы, несвежие и не питательные.
– Что делать, если они разнообразнее и лучше наших. Но оставим «кулинарныйстиль» и постараемся быть серьезнее. Мне кажется, от революции мы, русские, интеллектуально обнищали, и надо уметь признаваться в своем падении. Неужели вы не видите, что Россия от мира наглухо отгорожена и захлебывается в собственном самодовольстве. Неужели не ощущаете провинциальной ее слепоты.
Я забыл, как меня самого – от одной незатейливой песенки – в эту «провинцию» мучительно потянуло, и не без грубого ехидства продолжал:
– Боюсь, и вы становитесь на них похожими и защищаете не большевиков, а себя.
– Благодарю за любезность и предлагаю эту острую полемику прекратить, не то мы подеремся или усыпим нашу бедную хозяйку. Да и мне с Павликом пора на бал.
– Простите за мое негостеприимство, я действительно очень устала – и вовсе не от вашей полемики. Я просто не успела отдохнуть после дороги и квартирной возни.
Ваша усталость, обнаружившаяся именно к уходу обоих друзей, мне представилась решающей их победой, и я перед ними, на улице, стыдился своего поражения. Шура что-то угадал и на прощанье доверительно шепнул, словно пытаясь меня утешить:
– Вы были молодцом, а наша Леля немножко ерундит, но мы еще им покажем, где раки зимуют.
Петрик, быть может, отыскивая общий со мною тон, заговорил о вас и о Рите цинически-весело, по-мужски: «А стоит ли добиваться и терять время?» Я отнесся без должного юмора к его деловитому вопросу, анекдотически (но едва ли намеренно) бестактному, и возмутился до бешенства и до боли («Какая наглость – если бы Леля слышала – нет, ее надо предупредить») и не сразу подумал о том, что Петрик, видимо, не влюблен, что и я в подобных обстоятельствах рассуждаю так же бесцеремонно, что вся моя горечь от любви, от влюбленного упоения вашей не справедливостью, и меня даже не обрадовало смягчающее воздействие Павлика («Брось, это некрасиво, ты не умеешь себя вести»): оно мне как-то помешало законно упиваться негодованием.
Дома я понял, что снова задет, обижен, ревную, что ваша расхоложенность, наглядно мною увиденная, стремительно ускорила любовное мое возвращение, что мне предстоят борьба и отчаяние, а пока вплотную подошла эта уединенно-нетерпеливая ночь. Я с ужасом вспоминаю такие ночи, с отвратительными до них «последними впечатлениями», с рядом беспомощных попыток себя обмануть, с нарастающим сознанием своего бессилия и с невозможностью благоразумно смириться – у меня изредка бывают тяжелые приступы удушья, и вот, когда они проходят и дышится чарующе-легко, мне страшно думать об их неизбежном возобновлении и нельзя их предусмотреть или отвести, и так же внезапно, полуслучайно возобновляются бессонно-ревнивые мои ночи, с которыми я должен – от природной сопротивляемости – бороться, хотя и знаю свою, перед ними доказанную слабость. И сейчас, в изнуряющем одиночестве, как бы испытывая тошноту от физической боли, как бы стараясь – пускай ненадолго – ее унять, я без конца ворочался на жесткой отельной кровати и перепробовал, один за другим, все старые, наивно-жалкие способы освобождения. Есть, например, давно мне известная и порою спасительная поза – лежать с закрытыми глазами на спине, опираясь головой о плоскую подушку – тогда невольно могут совместиться телесное удобство, отсутствие желаний и приятные мысли о прошлом (разумеется, вашем и моем), мысли, заглаживающие теперешнюю безнадежность, однако, искусственное это спокойствие исчезает (словно его «сдунули») от нечаянного движения, от малейшей внутренней перемены, и, пожалуй, неясно, что лучше и что хуже: ведь меня тянет к отдыху и неподвижности огрубляющий инстинкт душевного здоровья, и в стремлении укрыться от беды, от навязчивых воображаемых упреков, мне столько раз помогавших судить о себе, о людях и чувствах, в подобном стремлении больше трусости, чем силы, моя же подлинная сила и призвание – боязненное любопытство ко всему неуловимо-запретному, не отравленное ни склонностью себя мучить, ни корыстными описательскими целями, но эта беспримесная, живая любознательность, единственный источник плодотворной моей зрячести, убивается вот именно такими намеренно-успокоительными, удобными «позами», и разве не вмешательство судьбы, что каждая из них – ошибка или мираж – и что я, даже против воли, не опускаюсь. И еще одна заведомо напрасная иллюзия – сначала вами привычно-возбужденный, я умышленно свое влечение переношу на какую-либо другую, мелькнувшую в памяти женщину (вчера, кажется, впервые – на Риту), и мне становится вдвойне и стыдно и грустно, оттого что и «она», вслед за вами, не разделяет унизительно-нежной моей чувственности или завистливых, необузданных желаний – я это обостренно сознаю, но должен как-то провести часы до утра и как-то вынужден себя утвердить, наперекор убогой, отвергающей меня реальности.
Вероятно, самое несносное – мне надо ускорить течение времени, от него оторваться, его «перехитрить» и «перегнать» (погрузившись в полуобморочную дремоту), а время изводит меня, как изводит школьника на уроке, ненавистно-унылой своей размеренностью, и каждая минута на счету: поэтому ночная моя лихорадка становится замедленной, неестественно-удлиненной, и жестокое, непрерывное ее сверление словно бы состоит из тысячи размножившихся частиц. Нет потребности, да и нужно ли сосредоточиться – я только послушно отмечаю, как бессвязно чередуются обрывки надежды, слова оскорбленной и непрощающей гордости, смутные поползновения вас оправдать (тем, что мы не выбираем своей любви и нелюбви, что и я бывал невольно беспощаден). Наряду с покорной усталостью возникает жажда подвига, славы и денег, настойчивое стремление перед вами безобразно и мстительно чваниться, создаются ребяческие картины вашего раскаяния, горькой и поздней вашей жалости, но всё это не удерживается, куда-то соскальзывает, и одно лишь неизменно возвращается – разрывая мне горло и грудь – понимание невознаградимой потери. В сущности, вы себя не выдали, ничего не сказали о своем уходе, о счастливом моем преемнике – и однако что-то произошло, достаточно ясное для меня и без ваших «официальных» подтверждений: я злобно припоминал нелепые мелочи и в них обнаруженную вами ко мне откровенную враждебность, забвение прошлого, нечаянные обиды (самые неподдельные и оттого самые тягостные), и меня постепенно охватила тоска бесповоротности, безутешности, преувеличенно – как всё любовное – распространяясь на целый мир, где я мучительно живу, где нельзя обольщаться и обманываться, где нет ни опоры, ни союзников, ни друзей. Заснуть так и не удалось, и хмурое раннее утро, нередко сладчайший, неврастенически-запоздалый мой отдых, до срока великодушно прекратило бессонную эту ночь, и я торопливо оделся, дрожа от слабости, потягиваясь и зевая, как праведный, примерный рабочий, который – по фабричному гудку – спешит, хотя и еле очнулся, на работу.


