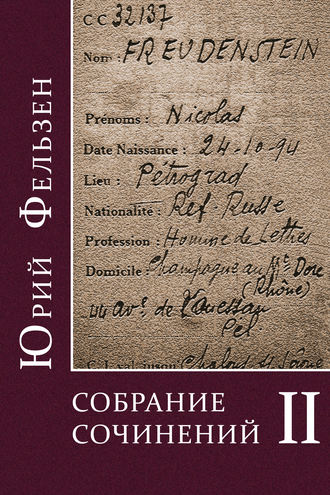
Полная версия
Собрание сочинений. Том II
Так иные, неожиданные латинские слова меня грустно пленяли по смыслу или звуку – склонявшееся на уроках «irrevocable tempus» (соответствовавшее первой моей сознательной грусти), таинственно-жалобное, дребезжащее «quaerela», несносные предлоги, вдруг переложенные встихи. Я улавливал что-то увлекательно-жизненное и в учебниках истории (вопреки их «казенщине»), и в гнусавом бормотании, в пьяных возгласах Морковки: он конечно своего не мог прибавить и наполовину спал, но внезапно просыпался, говоря об итальянских женщинах – от властных римских императриц до Екатерины и Марии Медичи – и, лукаво улыбаясь, подмигивал («коварные итальянки»), словно знал о них какую-то разоблачающую тайну. К нам однажды явился старичок, окружной инспектор и, отчетливо мелом изобразив на доске колонны и путь Карфагенского похода, внушительно-громко назвал имена: «Понимаете, Ганнибал, Газдрубал и Магон», – и по-новому участливо объяснил их поражение, чем всё это мгновенно для меня оживилось: я применил его рисунки к нашим побоищам на дворе, особенно же к летним воинственным играм, и тяжелая поэзия исчезнувшего мира слилась навсегда с полуродным земляничным полем, с низеньким берегом Финского залива, откуда за пароходами виднелся Петербург. Также и смутные уездные города не зря были известны «кустарными промыслами» и не зря очаровывали шуршащие «супески и суглинки» и неведомо-гулкие Драва и Морава: нас, естественно, поражали заманчивые созвучия и многое довносилось азартно-юной фантазией, но еще обостреннее мы воспринимали соблазнительную достоверность, угаданную за созвучиями. Иногда и нелепые, попросту ребяческие ошибки меня приближали к неожиданной реальности: я с детства запомнил – «всеобъемлющей душой» (вместо пушкинского «всеобъемлющей», в изображении Петра Великого) – и я видел Петра на каких-то ассамблеях, о которых читал в тех же «казенных» учебниках. Разумеется, полнее всего меня захватывали именно русскиестихи – и не только «Вещий Олег», «Три Пальмы», «Бородино», но и «на корабле купеческом “Медузе”, который плыл из Лондона в Бостон, был капитаном Бопп, моряк искусный, но человек недобрый…» От этого возникали затейливые, наглядные представления, к тому же подкрепленные размерно-словесным колдовством. Мы волновались – чуть сладострастно – перед русскими уроками, готовясь отразить нападения и хитрости неутомимого на всякие изобретения Николая Леонтьевича («в деревне “Волки” все крыши изъели»): он как-то по-товарищески над нами издевался, нас искренно высмеивал: «Все попались, даже Костин», – и никогда не выказывал умышленной снисходительности, столь обидной в разговорах скучающего взрослого с детьми. По субботам директор неизменно просматривал журнал, выговаривал за единицы и двойки и кое-кого начальственно-резко поощрял: «Костин Евгений, хорошие отметки-с», – и его безыскусственные, скорые выводы были вовсе не праздной для каждого игрой, а каким-то завершением существа и поэзии наших дел, нашей милой разнообразной гимназической повседневности.
Порою случались и несправедливости, и мы любили негодующе критиковать учителей (из-за чего лишь развилась природная моя склонность к анализу), но бывало и так, что их возмутительные пристрастия совпадали с нашими до мелочей – хотя бы недооценка всех усилий Щербинина, никого не удивлявшая и как-то привычно-незаметная. Я с ним однажды гулял на большой перемене, и мы читали друг другу заданный отрывок из «Полтавы», причем он помнил наизусть несравненно лучше меня и мне укоризненно (быть может злорадно) сочувствовал – на уроке пришлось отвечать нам обоим, и я, от волнения, от неуверенности и стыда, еще более прежнего сбивался и путался, но спасла меня откровенная помощь Николая Леонтьевича, его подсказывание и мой ложный подъем в ударных местах. Щербинин же, как обычно, себе вредил унылой, хриплой своей скороговоркой, и вот Николай Леонтьевич (мягко спросив: «Что, поленился?») мне вывел отчетливую, стройную пятерку – мы знали отметки по взмаху руки, по движениям пера – а взволнованному Щербинину безнадежную тройку, и на его молчаливый, нескрываемый укор последовало безжалостное, в мою пользу, сравнение:
– Большому кораблю – большое плавание.
Потом несколько дней его дразнили этой фразой, и никто не подумал с ним возмутиться заодно. Впрочем и положение «хорошего ученика» оказывалось трудным, непрерывно ответственным: надо было оправдывать чужое доверие, неуклонно подтягиваться, бояться неудач, снижающих репутацию и явно-обидных для чьей-то незаслуженной, непрочной благожелательности. Весь этот страх я испытывал, уже будучи взрослым – и на службе, и в делах, и в любви – и нередко избегал давать какие-либо обещания, хотя стремление поскорее, сейчас же понравиться в конце концов перевешивало мою дальновидную осторожность. Я также постепенно заметил одну особенность, мне часто мешавшую себя немедленно проявлять – что я бывал как-то слишком занят собой, порою не мог от себя оторваться, себе казался непрестанно у всех на виду и вдруг не отыскивал нужных мне слов, даже зная, о чем я собираюсь говорить. Это свойство теряться и быть на людях скованным с годами возросло, мне всё более препятствовало, и только теперь – после житейской борьбы, после долгих всеустраняющих любовных волнений, после ударов, уничтоживших бессильное мое тщеславие – я как будто избавился от прежней «самопоглощенности», но, пожалуй, из-за нее навсегда сохранилась стеснительная моя ненаходчивость, замененная прилежной работой наедине, вынужденной необходимостью по-ученически готовиться к иным, даже несущественным, невыигрышным мелочам. Как ни странно, всё это мне благоразумия не прибавило – оно лишь перенеслось в те немногие области, где могло быть затронуто внешнее самолюбие, уязвленное «экспромтными» моими неудачами, в остальном же я сделался намеренно-безрассуден, точно перед собою устыдившись доказанно-скупой своей предусмотрительности и подражая в легкомысленной их щедрости талантливо-дерзким «победителям», столько раз при мне платившимся за свою широту. И теперь мое безрассудство всего очевиднее в области любовной, для меня самой опасной и важной, но не связанной с вопросами чести и самолюбия, тогда же, до первой ответственной любви, я пытался не отставать от Олениных и Штейнов, перенимая их шалости – и вовремя уходя. Впрочем дома, за отсутствием соперников и зрителей, я менялся и оттого не приводил к себе товарищей, боясь роняющей меня в их глазах, постыдной домашней своей примерности и неизбежных разоблачений у обеих сторон. Единственно, кого я полурасчетливо приглашал, был именно Щербинин, всему посторонний до слепоты и неспособный разобраться в нехитрой моей политике. У нас его хвалили (без особой горячности) за вежливость, за манеры, за французский язык, и он действительно не замечал того, что меня стесняло – разговоров о гимназии, о гимназических моих дружбах, о «культурных запросах», о вредных влияниях – не замечал у нас и некоторой обеспеченности, и твердой незыблемости внешних порядков, всей моей исключительности в нашем тусклом школьном кругу, среди убогой простоты, еле прикрытой у большинства других, им однако дававшей взамен «беспризорную», невольную свободу. Сердечнее всех к Щербинину отнеслась наша гувернантка, стареющая косоглазая француженка, с обязательным в детстве «шато» и обедневшими родителями, с исковерканной судьбой из-за неудачного романа, с непонятным благоговением перед русскими аристократическими именами – она отличалась от множества ей подобных какой-то искренней, веселой любознательностью и трезвой оценкой всего ей известного, моих родственников и товарищей (хотя бы понаслышке), семейных тайн у прежних учеников, газетных событий и бесчисленных курьезов. Я усвоил отрывочные познания в ее болтовне и с их помощью безжалостно ее дразнил (когда-то излюбленное мое развлечение): так одно укромное местечко в квартире она патриотически называла «chez Bismarck» – я догадался, чтобы ее изводить, это же самое называть «chez Gambetta» и громко радовался неукоснительному ее гневу. С умышленной наивностью я задавал ей вопросы о давних временах, о франко-прусской войне, как будто она была современницей и свидетельницей – такие намеки на возраст, пожалуй, особенно ее возмущали. Напоминая стольких людей неясного, промежуточного ранга, привычно волнуемых чужой отраженной жизнью и чужой, их приютившей средой, она не могла отрешиться от снобизма, для нее же унизительного, от призрачных кастовых подразделений и Щербинина сразу причислила к «petite noblesse», что его как-то глухо возвышало, правда, менее, чем другое его достоинство – неожиданная, им проявленная галантность: он целовал ей руку, здороваясь и прощаясь, а иногда, прижимая к сердцу свою, театрально восклицал – «la bella des bellas» – но благодушной иронии она не различала и его мне возводила в образец, я же со злости незаметно его чернил. Несколько раз и я бывал у Щербинина, в неуютной, какой-то голой обстановке. Мы подолгу сидели вдвоем (очевидно, тетку, к нему безразличную, не могли заинтересовать и его друзья) и вели неприятно-чувствительные разговоры, за холодным чаем в мутных стаканах, которые Щербинин сам из кухни приносил – я думал с тоской об этих посещениях и старался их по возможности избегать.
2.
Не помню, какой был день – вероятно, похожий на все, унылый, грязно-туманный, осенний – кажется, начинало подмерзать. Уроки шли обычным своим порядком – я аккуратно отмечал вызываемых на заранее расчерченном листе и ставил предположительные отметки (не только из любви к статистике, но и для того, чтобы вернее рассчитать, когда должен наступить мой черед – я давно уже беспроигрышно изучил несложную систему преподавательских вызовов, у каждого свою, одинаково легкую и косную, и на этом строилось мое «пятерочное» благополучие). Дежурный вяло докладывал классному наставнику, Николаю Леонтьевичу – того нет, другого и третьего – и назвал последним (по алфавиту) Щербинина. Санька Оленин, «присяжный остряк», крикнул с места: «Щербинин повесился», – подражая прерывисто-хриплому его голосу. Почему-то никто не засмеялся.
После гимназии Лаврентьев, Костин и я, почти не сговорившись, молча отправились к Щербинину – узнать о его здоровьи, сообщить заданные уроки – с непонятной и нам несвойственной предупредительностью. Я без конца в различное время и разным людям всё это описывал, и у меня поневоле выработался один из тех пространно-готовых рассказов, которыми – незаметно для себя – мы по нескольку раз докучаем тому же собеседнику, которых сами уже не слышим, так что они, от долгой затасканности, теряют первоначальную свою точность и выразительность, чем навсегда уничтожается какое-то «жизненное дуновение» в передаваемом, да и во всяком нашем прошлом, ему сопутствовавшем: такие готовые, часто повторяющиеся рассказы потом неизбежно словно бы застилают остальное, и всё случившееся между происшествиями, в них отмеченными, бесповоротно улетучивается из памяти. Мы также не видим округлений и ошибок, нечаянно возникших от словесной быстроты, от разговорной безответственности, от погони за успехом – это в дальнейшем меняет по следовательность событий и, конечно, становится неотъемлемой их сутью: так, перебирая разнообразные причины, нас троих заставившие пойти к бедному Щербинину, я приписал нам тяжелые предчувствия и затем неоднократно ими хвалился – их очевидно не было и быть не могло. Всё же постараюсь хотя бы приблизительно воссоздать свои впечатления и добраться до тогдашней непосредственности через пустые, давно омертвевшие слова.
Мы не успели удивиться распахнутой двери в передней, двум заплаканным пожилым женщинам и сладко-тошному запаху ладана, как вдруг очутились в единственной парадной комнате – посередине, на столе, возвышался гроб, и в нем лежало худое и длинное, как будто вытянувшееся тело Щербинина. К моим рассказам впоследствии привязалось туманно-искусственное слово – «парение»: мне кажется и сейчас, что именно таким (невесомым, непрочным, оторвавшимся от земли – и где-то парящим, недостижимо-далеким) я в первую минуту увидел Щербинина и лишь постепенно, из-за неожиданных слез Костина, под равнодушное бормотание бледной монашки, от сильной руки Лаврентьева, меня дружески взявшего под локоть, я в мертвом стал различать живые, знакомые черты – посиневшие острые пальцы на гимназической куртке, оттопыренные маленькие уши над новыми, фиолетовыми пятнами, прямую линию лба, переносицы и носа (внезапно обрывающуюся около губ, уродливо-четкую в лежачей неподвижности) и шею особенно-нечеловечески-удлиненную. Это запомнилось одними глазами и до сердца, до жалости не дошло – скорей уж появился зачаточный страх, меня как-то сблизивший с Лаврентьевым и Костиным в невольных поисках взаимной опоры. От них в одну секунду меня отделил простейший вопрос («Нет ли среди вас Ф.»), заданный старшей из обеих дам – по-видимому, теткой Щербинина – я почувствовал себя недаром названным по имени, виноватым и уличенным, и сразу ответственным за эту смерть, и потом даже гордился воображаемой своей виной, хотя вопрос был несомненно и безобидный и случайный. Перед уходом мы узнали, что оленинская шутка зловеще оправдана и что под утро Щербинин повесился, оставив коротенькую записку, без единого указания или намека.
Нам так и не открылась действительная причина его конца – я придумал нелепое романтическое объяснение, неразделенную любовь к миловидной барышне, о нем всплакнувшей на похоронах, должно быть, родственнице или знакомой, или просто жалостливой соседке: я больше не встречал никого из близких ему людей, и моя фантазия, не стесненная опровергающей реальностью, могла заходить как угодно далеко. Вероятно, были нелепы и другие мои предположения – будто Щербинин, излишне подозрительный, не вынес придирок Николая Леонтьевича и беспощадной нашей холодности, особенно моей. Правда, он пытался к нам подойти, но всё рассеянней, всё с меньшей надеждой, и жил чем-то уединяюще посторонним, увлекаясь модными книгами (о которых мы еле слыхали), неубедительно говоря о вычитанной в них мудрости, направленной против жизни и вскоре захватившей многих из нас: в то упадочное время наши старшие товарищи, подражая разочарованной, порою фальшивой усталости взрослых и кокетливой безутешности этих модных книг, выискивали способы себя не щадить, себя как бы растратить физически и духовно – в бесцельном молодечестве (играя своим будущим), в «огарческих» кружках, в легкомысленных самоубийствах (вслед за этим в нашей гимназии «на пари» отравился шестиклассник), находили иногда и героическое разрешение – тоже беспросветное, непростительно-раннее – в душном и вязком революционном подполье. Не знаю, поддался ли Щербинин одной только «моде», влияниям и книгам, но думаю теперь, спокойно и трезво, что он-то, пожалуй, не ошибался: ему были суждены одиночество и недооценка, незаслуженные обиды, завистливые мучения, и он среди общей нашей неприспособленности (через годы так страшно обнаружившейся) оказался бы слишком уже беспомощным.
Мы спешно с приятелями распрощались – каждый торопился со своею сенсацией домой: я позже неоднократно замечал – одинаково у себя и у других – как мы любим использовать всякую свою близость к чужому подвигу, к чужому самопожертвованию, страданиям, смерти, точно они и нас возвышают, хотя мы всего только «дешево отделались». Я не сочувствовал самому Щербинину (даже терзаясь душевной своей уродливостью), однако ждал нетерпеливо минуты, когда смогу домашних поразить, и смутно боялся, что при этом рассмеюсь, особенно в разговоре с нашей мадемуазель, которая примет мою новость с наибольшим удивлением и жалостью. Мне удалось лишь в зрелые годы частично избавиться от неприятного свойства – смеяться в лицо над чьими-либо неудачами, над плохими отметками или «разыгранными» учителями, над малышом, свалившимся от подножки, над карточным проигрышем, над освистанным оратором, над посрамленным и растерянным спорщиком, над бегущими и опаздывающими на поезд – нередко, читая газетные известия о далекой борьбе враждующих партий, о нарастании мировых событий, я азартно хочу ускорить чье-то окончательное поражение, и в основе то же смешливое злорадство, травля и добивание любых неудачников, вопреки собственным пристрастиям и природной искренней доброжелательности: у меня очевидно проявляются и повышенное чувство смешного, и темные внутренние силы, и какая-то нервная распущенность, и то неудержимое гибельное стремление, которое болезненно нас тянет кинуться с балкона или с моста, сказать невозможную, непоправимую грубость, напрасно обидеть нам преданную, кроткую возлюбленную. И в детстве и до сих пор – чтобы сразу же подавить неуместную улыбку, привязчиво-бесстыдный смешок – у меня всегда наготове достаточно грустные воспоминания: мне это – из-за долгой тренированности – всё более, всё надежнее помогает, но в иных соблазнительных случаях досадная моя склонность прорывается. Так вышло и с mademoiselle – увидев понятный ее испуг, я в упор неприлично-громко расхохотался.
В гимназии и дома загадочный поступок Щербинина несколько дней подряд обсуждался наперерыв. В классе никто не злословил, даже Оленин и Штейн, и высказывались ложно-обоснованные предположения в тоне снисходительности, напускной серьезности и опытности (будто мы временно под кого-то маскируемся), и так же – быть может, сердечнее – об этом говорил и Николай Леонтьевич, с оттенком сплетничества, доверительно-интимно разобравший все нами придуманные объяснения. Похороны были деловито-будничными – те же лица, гербы и шинели, тот же беспорядок и покрикивание учителей – и на улице, а затем на кладбище я не испытывал ничего, кроме колотья в ушах от сверлящего холодного ветра, и тоскливо ждал конца неприятностей, теплой комнаты, утренней газеты (помню, с какими-то сведениями о выборах, для меня увлекательной очередной «сенсацией»). Стыдясь ледяного своего равнодушия, я сделал попытку в себе пробудить естественное возмущение перед новой могилой – что она закроется и своей жертвы не выпустит, что мы согреемся, а Щербинин останется в мерзлой земле, что обидно так молодо умирать, но вялые общие эти мысли отпали, не тронув, как и всякое наше умничанье. Столь же искусственными оказались и сочиненные мноюстихи, начинавшиеся со слов «Октябрь на дворе, столица заволоклась туманом, как всегда» и заканчивавшиеся нравоучительно, под взрослого:
Увы, хоронят молодого гимназиста,Который слишком рано жизнь познал,И, видя, что пути ее жестоки и тернисты,Ее на смерть променял.Стихи эти вскоре «затрепались» – не только по моей вине – и меня же стала отталкивать высокомерная их пустота, но Щербинина я по-прежнему не жалел и глухо радовался (как это бывало и впоследствии) исчезновению единственного свидетеля иных неприглядных моих сторон – в данном случае сентиментальных разговоров, смутных обязательств, постоянной беспощадности. И всё же мальчишеская моя бесчувственность не удержалась – она сменилась длительной связью с умершим, уже глубокой, похожей на «культ» и выбравшей два отчетливо-разных пути, которые изредка нечаянно скрещивались, однако не сливались и снова расходились.
Первый – тяжелые, навязчивые сны, возникшие по самому неожиданному поводу. Однажды вечером, блаженствуя в ванне (дней через десять после похорон), я – из ребяческого озорного любопытства – с головой погрузился в горячую воду, чтобы наглядно, приближенно себе представить, каково было Щербинину задыхаться, и от собственного ужаса, от дальнейшего сладкого освобождения вдруг ощутил его безвыходный конец. Это превратилось ошеломительно быстро в безвольную привычку, в какую-то странную одержимость: мне стоило остаться одному, как я судорожно пальцами зажимал ноздри и пробовал минуту не дышать, переносясь в предсмертное состояние Щербинина и всё более разделяя его мучения. Вероятно, были и другие причины, о которых я вспомнить не могу (или случившееся не сразу до меня дошло – наша «реакция» часто запаздывает, не поспевает за самим восприятием), но мне, именно поглощенному этой подражательно-самоубийственной игрой, впервые ночью приснился бледный, мертвый Щербинин, с теми синими пятнами, которые были у него в гробу, и всё же воскресший, способный двигаться и говорить – он крепко схватил мою руку своей холодной, как при жизни, рукой и повел меня куда-то наверх по длинной, страшной винтовой лестнице, причем я знал, что мы взбираемся на башню (не то вроде Вавилонской, по наивным библейским картинкам, не то на пожарную каланчу), затем он кинулся вниз и увлек меня за собой, и тогда я проснулся, дрожащий, невыразимо потрясенный. В квартире все спали, ничьей поддержки быть не могло, и я, как будто парализованный и темнотой и своим одиночеством, как будто находясь в присутствии, во власти мертвеца, особенно боялся уснуть и вызвать его неизбежное и слишком ощутительное появление. Это стало повторяться каждую ночь – по многу раз, едва я засыпал – и мой ужас не уменьшался, скорее даже усиливался, точно падало разумное сопротивление остатков уравновешенности и трезвости. Всё нестерпимее делалась пугающая, мстительная темнота, и часто вечером – из кабинета или гостиной – не имея мужества добраться до выключателя, я убегал в освещенную детскую, где наваждение немедленно проходило. Я себя уговаривал, что это не трусость, что у меня болезненные видения – хотя я к ним и не склонен, хотя таинственное мне чуждо и недоступно. Но потом, когда от возраста исчезла моя задетость, я – упрямо защищая ослабленную чувствительность (с таким упрямством защищают любовь), как бы спасаясь от сухости и скуки, – я себе навязывал эти же мрачные видения, и лишь последняя, грубо-искусственная попытка (студентом, в Крыму, среди пустынных улиц и бесконечных глиняных стен) разоблачила мой самообман: мне было нужно вот так по-взрослому себя осудить, чтобы навсегда отрешиться от соблазнительных выдумок. Я уже признавался, как меня возвышало романтическое вранье о Щербинине, лживо-тягостная моя виновность, легковесные предположения о расплате, к чему и сводилась вторая, внешняя сторона неразрывной моей с ним близости – и это выходило еще убедительнее от пережитых, неподдельно-страшных ночей (здесь явно скрещивались оба моих пути), и я, разумеется, удерживал (пока не явилась всё та же ироническая взрослость) простейшую возможность рисоваться столь тщеславными о себе рассказами перед напуганными, взволнованными гимназистками, при вечной моей стеснительности и неловкой ухаживательской робости.
Война, революция и гибель стольких людей уничтожили, вытеснили у меня всю исключительность того давнишнего потрясения, как вытеснили и горькое величие смерти. Я закалился, внутренно окреп и случайным обидам не поддаюсь, словно обдуманно-твердо решил охранять от назойливых вторжений единственно мне важную область – любовную: в ней укрылась моя неизменно-плодотворная уязвимость и ставшая осторожной, когда-то легковерная отзывчивость, нетерпеливо стесненная поставленными ей пределами. Как ни удивительно, ожидание такой именно любви уже возникло в упадочные годы моего детства, которые иным моим сверстникам представляются лишь ступенью к последующим событиям (быть может, оттого, что события действительно произошли): для многих столь рано прерванная наша молодость – как бы движение слепого у пропасти, как бы удар, готовый обрушиться – они, однако, не помнят, какою молодость была, и мне эти записки доказали неуловимость ее забытого очарования. Теперь мы очутились в пустоте, без собственного облика, без опоры, вне жизни, и я (вероятно, и другие – каждый по-своему, ответственно и одиноко), я себя пытаюсь воссоздать – опять-таки по-своему, через любовь – и хотел бы, чтобы из-за нее потускнели огненные блестки злобы (в чем-то осмысленной и праведной), и не знаю, куда и как применить отраженную, замкнутую, в любви накопленную доброту.
Возвращение
Едва ли не каждый на своем опыте убеждается в очевидном несоответствии того, как прихотливо-неровно ощущается время и как ритмически-точно его измеряют: я почему-то с упрямой непоследовательностью продолжаю наивно удивляться одной из таких несообразностей – что «скучные» дни, без событий и волнений, тянутся иногда невыносимо-долго, а дни, наполненные страхом, печалью, борьбой, наполненные ожиданием радости или горя (хотя ожидание и страх невыносимее скуки), кажутся – особенно впоследствии – пролетевшими незаметно. На эти мысли, простые и, в сущности, мне далекие, меня наталкивает сопоставление, уже обостренно задевающее, возникшее из-за постоянных наших поездок – все более вам нужных, опасных и длительных – сопоставление непрерывной с вами тревоги и моего спокойствия наедине. Обычно эти месяцы вашего добровольного отсутствия словно бы разрывают на части мою, и внешнюю, и внутреннюю жизнь, – и если нет у нас при встречах осязательной перемены в тоне разговоров, взаимного понимания и доверия, установленных, выработанных годами вдохновенных усилий – то разрыв, от одиночества и свободы (преувеличенных в моем восприятии), отравляет всю легкость и сладость общения посторонней, неясной, чужеродной примесью. У нас также не было при встречах перемены в основе отношений (да и устойчивая наша близость могла бы справиться с чем угодно – вероятно, и с тягостной потерей любви), и существо напряженной, почти неприязненной холодности, как-то у обоих неизбежной, когда вы снова появляетесь, существо нашего расхождения неукоснительно в одном – и у меня это нагляднее, грубее, неуклюжее – насколько в начале я по инерции поглощен предшествующей беззаботностью и пустотой: ведь и давнишние «безлюбовные» друзья, после разлуки и независимости, естественно, не сразу привыкают к обязывающим трудным совместным часам. Я изредка пробовал себе доказать, будто ваши приезды мне поневоле напоминают об ушедшем времени, о невозвратности, о постарении, о конце (из-за чего и вся бессознательная моя сопротивляемость), но затем обнаружил, какая в этом слащавая условность, и какая неподдельная жизненность была бы в ином – в нечаянном воскрешении соперничества и ревности: пускай бы даже их вызвали новые, грозные обстоятельства, устранив, обесценив предыдущие ревнивые опасения – для меня те и другие немедленно бы связались единой, безыскусственной, оживляющей болью, и к вам, неизменной виновнице и предмету моей боли, мне к вам едва ли пришлось бы так постыдно-неловко приспособляться. И вот эти «новые обстоятельства» налицо, и впервые – тотчас же после разлуки – я не испытываю ни растерянности, ни тяжести.


