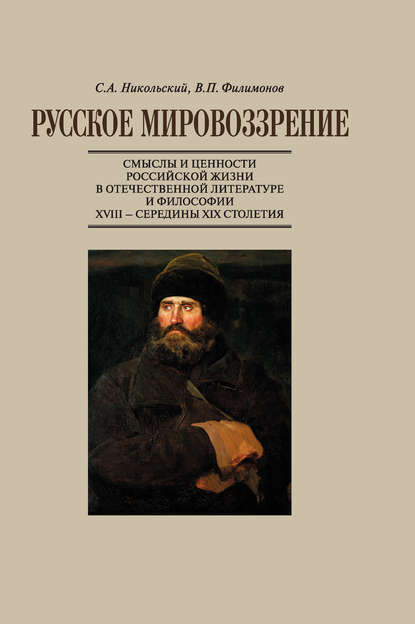Полная версия
Русское мировоззрение. Как возможно в России позитивное дело: поиски ответа в отечественной философии и классической литературе 40–60-х годов ХIХ столетия
В контексте идейных споров конца 50-х – начала 60-х годов о возможности позитивного дела в России и о появлении в стране «настоящих людей» написанный в 1860 году роман И.С. Тургенева «Накануне» занимает место ничуть не меньшее, чем последовавший за ним хрестоматийно известный роман «Отцы и дети». То, что произведение было создано буквально перед началом «Великой реформы 1861 года» и, значит, оказалось насыщено острейшими и наиболее актуальными вопросами, делает его особенно важным. По крайней мере современным исследователям Тургенев дает свое представление об иерархии того, что, на его взгляд, было главным и второстепенным для России того периода.
О принципиальной важности отраженной в «Накануне» позиции самого Тургенева свидетельствует и тот факт, что, прочитав посвященную роману статью Н.А. Добролюбова «Когда же придет настоящий день?», Тургенев поставил перед тогдашним редактором революционно-демократического «Современника» Н.А. Некрасовым ультиматум – не печатать ее. А когда ультиматум был отвергнут, с журналом порвал.
Сущность идейных разногласий великого писателя с революционным критиком хорошо видна и по откликам из нынешнего, XXI века. Так, в статье литературоведа П.Г. Пустовойта позиции Тургенева и Добролюбова обозначаются так: «Инсаров в понимании Тургенева – это борец не за социальное преобразование общества, а за национальное освобождение страны. Вот почему на первое место герой ставит общенациональные интересы… Добролюбов же связывал появление русских Инсаровых с осуществлением революционных идеалов. Для либерала Тургенева русский Инсаров мог быть просто умеренно-прогрессивным деятелем. Для Добролюбова русский Инсаров – это революционер»[68]. Обозначенные позиции были, как мы понимаем, несовместимы.
В своем отстаивании единственности революционного пути и критике тургеневского «постепенства» Добролюбов был последователен. Так, критически относясь к двум другим важным персонажам романа – скульптору Шубину и ученому Берсеневу – в их сравнении с борцом за освобождение Болгарии Инсаровым, он делает очень точный прогноз о возможности действий Инсаровых в России: «Они (русские Инсаровы. – С.Н., В.Ф.) хотят прогнать горе ближних, а оно зависит от устройства той среды, в которой живут и горюющие, и предполагаемые утешители. Как же тут быть? Всю эту среду перевернуть – так надо будет перевернуть и себя (выделено нами. – С.Н., В.Ф.); а подите-ка сядьте в пустой ящик, да и попробуйте его повернуть вместе с собой. Каких усилий это потребует от вас! – между тем как, подойдя со стороны, вы одним толчком могли бы справиться с этим ящиком. Инсаров именно тем и берет, что не сидит в ящике; притеснители его отечества – турки, с которыми он не имеет ничего общего; ему стоит только подойти, да и толкнуть их, насколько силы хватит. Русский же герой, являющийся обыкновенно из образованного общества, сам кровно связан с тем, на что должен восставать»[69]. Как же тут быть?
По цензурным соображениям, Добролюбов не мог, естественно, прямо говорить о своих идеях революционного переустройства России. Но это ясно прочитывается и в его отношении к поступку Елены, и в отношениях к Шубину и Берсеневу. В понимании героини, отодвинув в сторону главный, ясно прописанный Тургеневым мотив ее поступка – верности делу Инсарова, проистекающей из любви и преданности мужу, – критик дает свою интерпретацию. В трактовке Добролюбова Елена выбирает «волны восстания», лишь бы не «осудить себя на эту тяжелую пытку, на эту медленную казнь… И мы рады, что она избегла нашей жизни…». И еще: «…как хорошо, что она приняла эту решимость! Что в самом деле ожидало ее в России? Где для нее там цель жизни, где жизнь? Возвратиться опять к несчастным котятам и мухам, подавать нищим деньги, не ею выработанные и бог знает как и почему ей доставшиеся, радоваться успехам в художестве Шубина, трактовать о Шеллинге с Берсеневым, читать матери «Московские ведомости» да видеть, как на общественной арене подвизаются правила в виде разных Курнатовских, – и нигде не видеть настоящего дела, даже не слышать веяния новой жизни… и понемногу, медленно и томительно вянуть, хиреть, замирать…»[70]
В Елене Добролюбову видятся черты милого его сердцу образа революционера-ниспровергателя. А уж что происходит с содержимым ящика, который герой-революционер пожелает вращать вместе с собой, Добролюбова не заботит. В этом пункте вопросы Добролюбова к будущему заканчиваются. И было бы наивностью упрекать его за отсутствие «дальнозоркости»: критик ставил и искал ответы на те вопросы, которые прозревал, к которым был готов, и мы можем судить его лишь по правилам, им самим установленным.
Вместе с тем, не оценивая критика в связи с поднятыми им проблемами, мы можем свидетельствовать о выводах, сделанных русским обществом в ходе реальной истории. И один из них, имеющий отношение к добролюбовскому «ящику», состоит в том, что в результате принудительного вращения не только его содержимое – русский народ претерпел непредвиденные революционным демократом негативные изменения, но, что не менее важно, сами устроившие вращение революционеры изменились едва ли не коренным образом. При этом от многих их идеалов спустя непродолжительное время не осталось и следа. То, что происходило с ними при подготовке к «вращению», а равно и в его процессе, русскому читателю поведают спустя двадцать с небольшим лет герои романов Н.С. Лескова «Некуда» и «На ножах», также и Ф.М. Достоевский своим «Преступлением и наказанием» и «Бесами». Но о них речь впереди. А пока вернемся к роману «Накануне».
Добролюбов не мог обделить своим вниманием и других важных героев тургеневского произведения. Дворянам Шубину и Берсеневу с их способностями лишь к «малым делам» от критика достается в полной мере. «…Большая часть умных и впечатлительных людей бежит от гражданских доблестей и посвящает себя различным музам, – замечает он. – Хотя бы те же Шубин и Берсенев… славные натуры, и тот и другой умеют ценить Инсарова, даже стремятся душою вслед за ним; если б им немножко другое развитие да другую среду, они бы тоже не стали спать. Но что же им делать тут, в этом обществе? Перестроить его на свой лад? Да ладу-то у них нет никакого, и сил-то нет. Починивать в нем кое-что, отрезывать и отбрасывать понемножку разные дрязги общественного устройства? Да не противно ли у мертвого зубы вырывать, и к чему это приведет?»[71] (Вот так! В силе и образности выражений Добролюбову не откажешь. Получите, господа умеренные либералы! Выделено нами. – С.Н., В.Ф.) Так критик-революционер оценивает тургеневские попытки наметить свое решение проблемы позитивного преобразования российской действительности, предлагаемые писателем рассуждения о возможности появления «новых людей».
В заочный диалог писателя и критика, безусловно, примешивалось и личное отношение. Читая статью Добролюбова, нельзя избавиться от чувства, что пишет критик о «г. Тургеневе» несколько снисходительно, как бы похлопывая по плечу, как человек будущего, имеющий дело с «обломком прошлого» и который точно знает рецепт того, как сделать жизнь в России лучше, чем и отличается от несведущего в «социальном вопросе» писателя-«постепенца». В одном месте Добролюбов (обратим внимание не только на смысл, но и на интонацию. – С.Н., В.Ф.) даже замечает: «Сборы на борьбу и страдания героя, хлопотавшего о победе своих начал, и его падение перед подавляющею силою людской пошлости – и составляли обыкновенно интерес повестей г. Тургенева»[72]. Ну, прямо «Мальбрук в поход собрался…». Не только Шубин и Берсенев, но также и Лаврецкий, согласно Добролюбову, «принадлежит к тому роду типов, на которые мы смотрим с усмешкой»[73].
Неверны по сути, равно как и обидны, если не оскорбительны, были и обозначенные Добролюбовым позиции, которые вообще, по его мнению, занимают в литературном процессе писатель и критик. Роль писателя Добролюбов низводит до функции «регистратора действительности» – дескать, сила реальности такова, что вне зависимости от субъективных намерений автора она сама пробивает себе дорогу и именно с этим, а не с авторским замыслом имеет дело читатель. «Для нас не столько важно то, что хотел сказать автор, сколько то, что сказалось им, хотя бы и ненамеренно, просто вследствие правдивого воспроизведения фактов жизни»[74].
Принизав силу воздействия и значение тургеневского творчества, и при этом замечая, что только чутье к актуальной проблематике «спасло г. Тургенева» (здесь и далее выделено нами. – С.Н., В.Ф.) от забвения и «упрочило за ним постоянный успех в читающей публике»[75], совсем в другом масштабе Добролюбов представляет собственное профессиональное назначение. По его мнению, главной задачей литературного критика является ни много ни мало – «разъяснение тех явлений действительности, которые вызвали известное художественное произведение»[76].
Получив такую трактовку романа, а заодно и оценку реальных позитивных персонажей русской жизни («Где уж грызть орехи беззубой белке?»), разобраться в которой под силу одному только критику (читай: «революционному критику». – С.Н., В.Ф.), Тургенев не мог не расстаться с такого рода товарищем по перу и журналу: разрыв сделался неизбежным. Перейдем, однако, к анализу самого романа.
О том, что Шубин и Берсенев – не фигуры «второго ряда», а известное выражение Тургеневым его собственных идей относительно возможности позитивных преобразований в стране, говорит помимо прочего уже первая глава романа – одна из самых длинных, наиболее философичных, стоящая к тому же как бы особняком, выполняющая, на наш взгляд, роль романного эпиграфа. В самом деле, она не имеет прямого отношения к будущей центральной сюжетной линии и посвящена обозначению позиций Шубина и Берсенева по ряду социально-философских проблем.
Об особом значении этой главы свидетельствует и то, что она, насколько нам известно, не была подвергнута разбору под этим углом зрения не только Добролюбовым (в этом случае критик, на наш взгляд, упустил возможность вдоволь поиронизировать над «умствованиями» либералов-постепенцев. – С.Н., В.Ф.), но и позднейшими отечественными исследователями. Они, как нам представляется, не придавали значения философскому содержанию главы потому, что стояли на добролюбовских и позднейших «марксистско-ленинских» позициях революционного преобразования действительности как единственно верных и возможных, и, следовательно, другие точки зрения могли интересовать их только как объект критики. Итак, о чем же ведут речь изображенные в ней приятели, лежащие на берегу Москвы-реки в жаркий летний день?
Первая тема – о деле великом и малых делах. Возникает она в монологе Шубина о стариках-антиках, в произведениях которых виден весь мир и к которым красота «с неба сама сходила». В наше время, нам, говорит Шубин, «так широко раскидываться не приходится: руки коротки. Мы закидываем удочку на одной точечке, да караулим. Клюнет – браво! А не клюнет…»[77]. В ответ Берсенев возражает в том духе, что чувствовать красоту нужно везде. И это не противоречие. Без знания о прекрасном вообще невозможно его воссоздание в одной «точечке», в которую закинул удочку. И если представление об общем дает знание, то действовать нужно все-таки в одной точке, в том числе и пытаясь «вертеть ящик вместе с собой».
Далее разговор приятелей переходит на Елену, и из него можно заключить, что эта девушка «не для малых дел» – она не вписывается в проговоренный приятелями способ постепенного преобразования мира: «не дается, как клад в руки». А ведь она – дочь человека дюжинного. Закономерен вопрос: «кто зажег этот огонь?»
За явлением в романе Елены, в том числе и в связи с вопросом «кто зажег огонь», также просматривается тургеневская позиция, расходящаяся с позицией Добролюбова. Если для писателя появление такого рода людей – в принципе неразрешимая загадка и люди эти – исключительные, по которой нельзя мерять всех, когда речь идет о массовых социальных преобразованиях, то для революционного демократа, как известно, тайн в жизни нет. Такие люди (на языке критика – «русские Инсаровы») могут начать появляться в России массово, как только «условия среды изменятся» {7}.
В разговоре приятелей звучит еще одна важная философская тема – о пределах познания человеком мира, который рассматривается человеком как объект преобразования. Как соотносится наше желание и следующее за ним удовлетворение с тем, что мы застаем, обнаруживаем, а подчас и назначаем к изменению в природе? Что и до какой степени мы имеем право менять? Вопросы эти, согласимся, правомерны и по отношению к социальному миру. Позиция тургеневских героев – делать «малые дела» – и в этом отношении оказывается более приемлемой хотя бы потому, что они несравненно менее опасны по своим последствиям для сложно устроенного и мало познанного мира, чем крупные революционные перемены. К тому же отметим, что чаще всего революционные преобразования совершаются не столько в результате продуманности, сколько потому, что без них жизнь, как говорит Добролюбов, кажется «медленной». Довод столь же основательный, сколь и ответственный.
И наконец, друзья обсуждают синтезирующую все иные проблемы – проблему счастья. При этом Берсенев сразу же ставит ее в наиболее важной плоскости: возможно ли счастье, которое бы не разъединяло людей, в пределе – не делало бы их врагами? Он с уверенностью говорит «да», поскольку это обеспечивается как общими делами, так и общим пониманием целого ряда принципиально важных для человека понятий и сфер – искусства, науки, родины, свободы, справедливости и, наконец, любви. На этом разговор как эпиграф романа прерывается и неожиданно, камнем в воду, возникает тема Инсарова.
Возвращаясь к главному предмету спора Добролюбова с Тургеневым, отметим следующее. Конечно, Инсаров, как это и подано в романе, вовсе не революционер, каковым его хотел бы видеть критик, а борец за освобождение своей страны. Означает это, между прочим, и то, что при положительном исходе – изгнании турок – Инсарову еще предстоит столкнуться с проблемами собственно болгарского общества, во многом схожими с российскими, то есть с теми проблемами, над которыми размышляли Шубин и Берсенев и революционный рецепт решения которых грезился Добролюбову. При таком повороте по-новому звучит и само название тургеневского романа.
С появлением в романе нового героя – Инсарова (только в седьмой главе) – тема «после кануна», то есть рассмотрение возможности позитивных преобразований и появления в России «настоящих» людей, обретает новое звучание. Конечно, в романе она присутствует как гостья из будущего, как фон для главной коллизии сегодняшнего бытия героев: стремящийся к великому делу освобождения родины болгарин и занятые «мелкими делами» русские. Однако значение этого фона трудно переоценить.
И фон этот периодически воспроизводится в тексте романа и создается, помимо известного нам Берсенева и философствующего скульптора Шубина с его постоянно задаваемым вопросом «а мы-то, в сравнении с Инсаровым, чем хуже?», еще одним интереснейшим лицом – троюродным братом Елениного отца Уваром Ивановичем Стаховым. Этот «отставной корнет лет шестидесяти, человек тучный до неподвижности, с сонливыми желтыми глазками и бесцветными толстыми губами на желтом пухлом лице» жил на проценты с небольшого капитала, оставленного ему женой. Он ничего не делал и «навряд ли думал», ел часто и много, почти ничего не говорил, а когда ему «приходилось выразить какое-либо мнение, судорожно двигал пальцами правой руки по воздуху, сперва от большого пальца к мизинцу, потом от мизинца к большому пальцу, с трудом приговаривая: «Надо бы… как-нибудь, того…»[78] Только один раз в своей жизни «он пришел в волнение и оказал деятельность, а именно: он прочел в газетах о новом инструменте на всемирной лондонской выставке – «контробомбардоне» и пожелал выписать себе этот инструмент, даже спрашивал, куда послать деньги и через какую контору?»[79] Однако тем дело и кончилось.
Вместе с тем Увар Иванович – не карикатурный персонаж[80]. Впрочем, если и карикатурный, то в духе шекспировских персонажей – пересмешников-героев, в концентрированном виде высказывающих идейный замысел автора. Назначение Увара Ивановича и у Тургенева – серьезное и глобальное. Он вписывается в роман, с одной стороны, как своеобразное природное начало (так, он, например, удивительно точно умеет подражать голосу птиц), а с другой – как персонифицированная и в концентрированном виде представленная в одном человеке типично русская помещичья общественная среда[81]. Именно в качестве «среды» его и рекомендует нам Шубин, когда называет его «черноземной силой», «фундаментом общественного здания», «почтенным витязем».
Тургеневские эпитеты определенно формируют у читателя двойной и в обоих случаях связанный с мифом, то есть в высшем философском смысле, обобщающий образ. Во-первых, невольно напрашиваются ассоциации с заколдованным витязем-Головой в поэме А.С. Пушкина «Руслан и Людмила». Напомним, что в диалоге с Русланом Голова рассказывает о том, что и сама прежде была витязем, но потом оказалась заколдована кознями коварного младшего брата. Теперь же, когда Руслан доказал свою доблесть, она готова ему верно служить, то есть продолжать свою прошлую праведную жизнь. Этой аналогией «почтенный витязь» как бы заявляет «новым людям»: не все во мне плохо, есть и доброе прошлое, и меня возьмите в союзники, будем жить вместе.
Во-вторых, Увар Иванович как огромная и бесформенная, преимущественно пребывающая в лежачем положении «черноземная сила» навевает ассоциации и с гоголевским Вием, считавшимся, по свидетельству великого писателя, у малороссиян «начальником гномов, у которого веки на глазах идут до самой земли». Вий, как и Увар Иванович, тоже происходит из земли, выступает ее продолжением. Вспомним, как Гоголь описывает его появление: «…ведут какого-то приземистого, дюжего, косолапого человека. Весь был он в черной земле. Как жилистые, крепкие корни, выдавались его засыпанные землею ноги и руки. Тяжело ступал он, поминутно оступаясь. Длинные веки опущены были до самой земли»[82]. При встрече с чудовищем философу Хоме недостает сил полностью последовать полученному запрету: он, вопреки ему, взглядывает на Вия, тот его немедленно обнаруживает, и Хома гибнет.
Что за этой аналогией? Очевидно, намек на внутреннее нетерпение, часто свойственное молодым современным героям, на их желание опередить события, глянуть в глаза Вию – заглянуть за завесу завтрашнего дня, двинуть «ящик» толчком снаружи, не заботясь о состоянии его содержимого. Шубин, как и Хома, любопытен – теребит Увара Ивановича вопросами о будущем. Но это не толчки извне: между ними, замечает Тургенев, имеется какая-то «странная связь и бранчливая откровенность».
Не этим ли, но в несравненно большем масштабе грешит в своей трактовке болгарина и Добролюбов, озабоченный скорейшим появлением в России «массового Инсарова – революционера». Однако в отличие от критика у героев Тургенева – скульптора и опять же философа – иная, «постепеновская» позиция. И поэтому в тургеневском романе Вий – Увар Иванович не причиняет Шубину зла, а только как бы придерживает его, время от времени приговаривая: «Всему свое время».
Почему между Шубиным и Уваром Ивановичем существует откровенность, читателю становится ясно несколько позднее, когда они обсуждают будущее Елены, уже вышедшей замуж за Инсарова и собирающейся уезжать. Косноязычный и производящий впечатление человека туповатого, Увар Иванович в этом случае вдруг обнаруживает себя верно рассуждающим и моральным. Примечателен итог их беседы, которую Увар Иванович ведет лежа, в позе, в которой, по замечанию скульптора, неизвестно, чего больше – «лени или силы».
Шубин горячится: «Нет еще у нас никого, нет людей, куда ни посмотри. Все – либо мелюзга, грызуны, гамлетики, самоеды, либо темнота и глушь подземная, либо толкачи, из пустого в порожнее переливатели да палки барабанные! А то вот еще какие бывают: до позорной тонкости самих себя изучили, щупают беспрестанно пульс каждому своему ощущению и докладывают самим себе: вот что я, мол, чувствую, вот что я думаю. Полезное, дельное занятие! Нет, кабы были между ними путные люди, не ушла бы от нас эта девушка, эта чуткая душа, не ускользнула бы как рыба в воду! Что ж это, Увар Иванович? Когда ж наша придет пора? Когда у нас народятся люди?
– Дай срок, – ответил Увар Иванович, – будут.
– Будут? Почва! Черноземная сила! Ты сказал: будут? Смотрите же, я запишу ваше слово. Да зачем же вы гасите свечку?
– Спать хочу, прощай»[83].
По прошествии некоторого времени, когда Инсаров уже умер, а Елена пропала в пучине Балканских проблем, мы узнаем, что и Берсенев, и Шубин не коптят небо зря. Оба сделали карьеру и работают за границей: Берсенев – в Германии, и из него, по уверению Тургенева, «выйдет дельный профессор», а Шубин – в Риме, «считается одним из самых замечательных и многообещающих молодых ваятелей». Один только Увар Иванович не переменился и на повторенный в письме вопрос Шубина, будут ли в России настоящие люди, только «поиграл перстами и устремил в отдаление свой загадочный взор»[84]. Дескать, однажды уже отвечал, что ж вторично спрашиваешь, егозишь.
Для ответа на вопрос о возможности позитивного преобразования российской действительности – то ли упорным, каждодневным трудом, «постепенством» малых дел, то ли радикальными мерами, взятыми из практики освобождения Болгарии от турецкого владычества и посредством насаждения в стране Инсаровых, – важна XX глава романа, в которой Шубин показывает Берсеневу скульптуры Инсарова и свою собственную. Шубин представляет Инсарова дважды – в героическом бюсте, названном «Герой, намеревающийся спасти свою родину», и в ернической статуэтке, изображающей наклонившего голову барана, названной «Берегись, колбасники!».
Очень важен комментарий автора романа. О баране Тургенев пишет так: «Злее и остроумнее невозможно было ничего придумать. Молодой болгар был представлен бараном, поднявшимся на задние ножки и склоняющим рога для удара. Тупая важность, задор, упрямство, неловкость, ограниченность так и отпечатались на физиономии “супруга овец тонкорунных”»[85] (выделено нами. – С.Н., В.Ф.). Подчеркнем, это единственная прямая нелицеприятная оценка Тургеневым своего героя. Чем же вызвана она? Не провидением ли автора, как бы заглянувшего в то будущее, после изгнания турок, болгарское общество, в котором инсаровской боевитости и упорства будет совсем недостаточно, когда наступит время кропотливой каждодневной работы?
В то же время в еще одной скульптуре Шубин сделал и собственный портрет в виде испитого жуира с погасшими глазами рядом с чувственной дворовой девкой. В ответ на слова Берсенева о том, что Шубин оклеветал себя, скульптор отвечает, что если он и станет таковым, то в этом будет виновата «одна особа». В этом же контексте звучит и неоднократно задаваемый Шубиным вопрос: в самом ли деле он, да и Берсенев не такие значительные, не столь интересные, да и вообще во всех отношениях менее масштабные личности, чем Инсаров? Не слишком ли велико место, отводимое в русском общественном сознании героическому порыву, революционному поступку, не стоило бы расширить поле позитивных представлений о красоте упорного каждодневного труда?
Вопрос этот не кажется праздным в российской иерархической системе «признанных обществом» (а на самом деле навязанных ему вначале революционно-демократической, а затем и марксистско-ленинской идеологией) ценностей. В ней, в частности, активно возвеличивается высокая значимость связанного с судьбой народа революционно-героического дела и малая значимость (как будут говорить позднее – «мещанство») рутинного повседневного труда. Вот и Ю. Лебедев в книге о Тургеневе пишет, что Инсаров отличается от Берсеневых и Шубиных цельностью характера, полным отсутствием противоречий между словом и делом. Он занят не собой… «Силы Инсарова питает и укрепляет живая связь с родной землей, чего так не хватает русским героям романа… И Берсенев, и Шубин – тоже деятельные люди, но их деятельность слишком далека от насущных потребностей народной жизни. Это люди без крепкого корня, отсутствие которого придает их характерам или внутреннюю вялость, как у Берсенева, или мотыльковое непостоянство, как у Шубина»[86].
В логике заочного спора Тургенева – Добролюбова, подхваченного впоследствии революционным крылом русской литературы, согласно критику выходит, что, как однажды высказался о счастье К. Маркс, оно – в борьбе[87]. Впрочем, по мнению Тургенева, как мы полагаем, ответ на вопрос об абсолютной ценности борьбы следует давать отрицательный, иначе как бы это согласовывалось с чертами тупой важности и ограниченности в физиономии барана – Инсарова. Очевидно, если и есть возможность повернуть ящик, толкая его извне, то это вовсе не отменяет необходимости затем поворачивать его, сидя внутри. А вот по силам ли это людям типа Инсарова – для Тургенева большой вопрос.
Что же до Добролюбова, то, наверное, такого рода вопросы его не занимали вовсе. Свою миссию он, очевидно, как и списанный с него тургеневский Базаров, видел в том, чтобы «место расчистить». О людях типа Добролюбова и Чернышевского Герцен, например, однажды сказал: меня поражает в них «злая радость отрицания и страшная беспощадность». Впрочем, не слишком далеки от них и утописты – по словам Герцена, «люди дальнего идеала». «Люди, смелые на критику, были слабы на создание; все фантастические утопии двадцати последних годов[88] проскользнули мимо ушей народа; у народа есть реальный такт, по которому он, слушая, бессознательно качает головой и не доверяет отвлеченным утопиям до тех пор, пока они не выработаны, не близки к делу, не национальны, не полны религией и поэзией»[89].