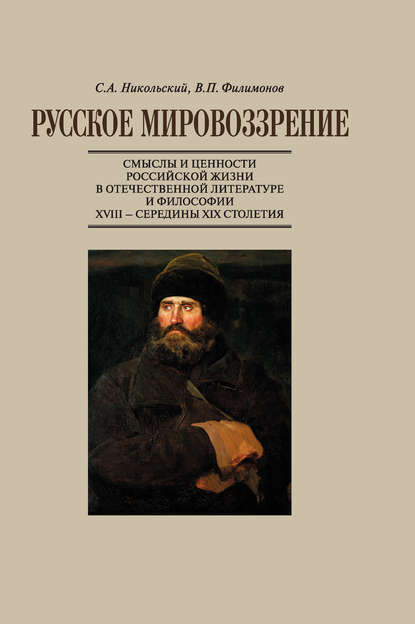Полная версия
Русское мировоззрение. Как возможно в России позитивное дело: поиски ответа в отечественной философии и классической литературе 40–60-х годов ХIХ столетия
Правда, делает оговорку революционер, эти кардинальные меры приведут к разным результатам в отношении городских и сельских работников. В сравнении с горожанином «земледелец гораздо более благополучен: его натура, не испорченная душной и зачастую отравленной атмосферой заводов и фабрик, не изуродованная анормальным развитием одной какой-нибудь способности во вред другим, остается более сильной, более цельной, но зато его ум – почти всегда более отсталым, неповоротливым и гораздо менее развитым, чем ум фабричных и городских рабочих»[30].
Однако если сравнить «потенциал» привилегированного класса и класса обездоленных, то последние обладают рядом таких качеств, которые нельзя найти у собственников. Это – «свежесть ума и сердца»; более правильное «чувство справедливости», чем «справедливость юрисконсультов и кодексов»; сочувствие другим несчастным; «здравый смысл, не испорченный софизмами доктринерской науки и обманами политики» и др. Народ, полагает Бакунин, уже понял, что первым условием его «очеловечения» является коренная реформа экономических условий, произведенная путем «радикального преобразования современного устройства общества», а из этого логически вытекает необходимость революции и социализма.
Однако социализм не вытекает из революции автоматически. История показывает, что социалистические идеи впервые возникают в теоретической сфере, а из революционной практики следует республиканизм. Возникший в теории социализм существовал в двух формах: в форме доктринерского и революционного социализма. Пример доктринерского социализма – учения Сен-Симона и Фурье, а революционного социализма – концепции Каабе и Луи Блана. Заслуга этих двух социалистических систем состоит в том, что они, во-первых, подвергли строгой критике современное устройство общества и, во-вторых, столь яростно нападали на христианство, что расшатали его догматы и восстановили в правах человека с присущими ему страстями.
Вместе с тем их ошибкой была уверенность в том, что добиться изменения положения вещей можно «силой убеждения», направленной против богатых, а социалистический порядок возникнет не в результате активности масс, а как утверждение на земле теоретической доктрины. Обе системы «питали общую страсть к регламентации», «были одержимы страстью поучать и устраивать будущее», и потому обе были авторитарными[31].
Республиканизм, в отличие от социализма, естественным образом вытекал из революционной практики, прежде всего из практики Великой французской революции. При этом политический республиканец должен был ставить и ставил интересы своего отечества выше не только себя самого, но и международной справедливости и потому рано или поздно оказывался завоевателем. Для республиканца свобода – пустой звук. Это всего лишь свободный выбор быть добровольным рабом государства, и потому он неизбежно приходит к деспотизму.
Социалист же превыше всего ставит справедливость (равенство), посредством которого он служит всему обществу, а не только государству. Поэтому он «умеренно патриотичен, но зато всегда человечен».
И наконец, заключительная, третья часть работы «Федерализм, социализм и антитеологизм» посвящена манифестации взглядов ее автора по религиозному вопросу. Вера для М.А. Бакунина является синонимом порабощения. «…Всякий, кто хочет поклоняться Богу, должен отказаться от свободы и достоинства человека.
Бог существует, значит, человек – раб.
Человек разумен, справедлив, свободен, – значит, Бога нет»[32].
Религия, по Бакунину, деморализует народ. В его перечне проистекающих из религии зол – «убийство» разума, трудовой энергии, производительной силы, чувства справедливости, самой человечности. Религия основана на крови и живет кровью.
В известном смысле логическим продолжением книги «Федерализм, социализм и антитеологизм» являлась вышедшая в Женеве в 1868 году работа «Наука и народ». Работа эта интересна в том числе и потому, что содержит в себе адресацию к исследуемой нами позднее в романах И.А. Гончарова проблеме сердца и разума. Так, у Бакунина имеется трактовка разума как такового. Вот она. Констатируя доставшееся современным ему мыслителям от прошлого «раздвоение» действительности на мир «физический» и «духовный», Бакунин заявляет о преодолении такового. Основанием для этого, согласно его видению, стало знание о «физиологическом происхождении всей нашей умственной деятельности»[33]. В этой связи отныне мир должен пониматься только как единый, а наука трактоваться как единственное средство его познания. Метафизику же и отвлеченные умопостроения следует отбросить, включая понятия о Боге, равно как и все связанное с Ним. Он пишет: «…чтобы окончательно освободить человека, надо положить конец его внутреннему раздвоению – надо изгнать бога не только из науки, но и из самой жизни; не только положительное знание и разумная мысль человека, но и воображение и чувство его должны быть избавлены от привидений небесных. Кто верит в бога, тот …обречен на неминуемое и безвыходное рабство»[34].
В истории философии, согласно Бакунину, решающий удар по ошибочным воззрениям признававшего действенность метафизики И. Канта был нанесен Л. Фейербахом. Именно он, а вслед за ним и основатели «новой школы» – Бюхнер, Фохт, Молешотт сделались во всем мире, и в России в том числе, «апостолами революционной науки», которая разрушила все преграды религии и метафизики и открыла людям пути к свободе. Прошлое признание человечеством бога, бессмертия души и, вслед за этим, богопоставленного государства и царей с их деспотизмом и полицейской властью, было отброшено. Таким образом, «уничтожая в народе веру в небесный мир, они готовят свободу земного»[35].
Но кто будет субъектом знания и народного просвещения? В России со времен Екатерины II бродила идея создания народных школ. Поддерживали ее даже некоторые дворяне. Но возможно и допустимо ли такое действие со стороны правительства? Екатерина II, без сомнения, умнейшая из потомков Петра, писала одному из своих губернаторов, который, поверив ее обычным фразам о необходимости народного просвещения, поднес ей проект об установлении школ для народа: «Дурак! Все эти фразы пригодны, чтобы морочить западных болтунов; ты же знать должен, что, коль скоро народ наш станет грамотным, ни ты, ни я не останемся на своих местах»[36].
Поскольку эта позиция правительства сохраняется до сих пор, резюмирует Бакунин, «путь освобождения народа посредством науки и для нас загражден; нам остается поэтому только один путь, путь революции. Пусть освободится сперва наш народ, и, когда он будет свободен, он сам захочет и сумеет всему научиться. Наше же дело приготовить всенародное восстание путем пропаганды»[37].
Так мыслил русского человека, крестьянина прежде всего, и его роль в общественном развитии один из основателей революционного движения. Таким видел он путь освобождения русского земледельца. И то, что эти идеи постепенно начали проявляться в художественном сознании, всесторонне обдумываться в нем в форме сюжетных линий и образов, покажет нам анализ тех литературных произведений, которые мы намерены рассмотреть далее.
II. Отечественная литература и литературно-критическая мысль 40–60-х годов XIX столетия и проблематика русского мировоззрения
Предлагающийся для дальнейшего анализа цикл из шести романов автора «Записок охотника» несколько нарушает уже сложившийся в рамках нашего исследования метод рассмотрения проблем. Во-первых, имевшийся прежде сугубо земледельческий контекст обсуждения существенно расширяется: действие разворачивается не только в деревне, но и в городе, в том числе за границей, а деревня и усадьба в этом случае отодвигаются на второй план. Во-вторых, центральной фигурой вместо крестьянина и помещика становится новый, как правило, молодой человек, причем не только потомственный помещик, но часто и разночинец, маргинал. Это, безусловно, приводит к смещению авторского внимания, к известному расширению содержания обсуждающихся проблем. Принципиально важным при этом, однако, остается вопрос: означает ли все это, что размышления Тургенева о миропонимании, миросознании и мировоззрении русского земледельца прерываются? Думаем, нет. Благодаря новому ракурсу они возвышаются до обсуждения проблем русского мировоззрения.
Глава 2. Возможно ли в России позитивное дело: романное творчество И.С. Тургенева

«Записками охотника» и в особенности циклом из шести романов[38] И.С. Тургенев первым в русской литературе начал систематически проводить исследовательскую линию, которая в конечном счете позволила получить развернутые ответы на вопросы, имеющие решающее значение для исторической судьбы страны и давно волновавшие мыслящих людей: как возможно позитивное преобразование российской действительности {3} и «когда в России появятся настоящие люди»[39]. При этом имелись в виду все стороны русского общественно-политического уклада – социально-политическая, хозяйственно-экономическая и культурно-нравственная. Остановимся на этих темах подробнее.
В вопросе о позитивном преобразовании, прочитываемом нами в прозе Тургенева, следовало бы прежде всего уточнить: о каких возможных изменениях предполагается говорить? Ведь в социально-политическом смысле к середине XIX века их набор уже был достаточно широк – от легко прочитываемых в тексте бунтовщических призывов А.Н. Радищева, в том числе и «к топору», до тайных заговоров декабристских обществ с их идеями ограничения власти царя посредством учреждения парламента и принудительного перехода к конституционной монархии с обращением к опыту европейских революционных прецедентов, нередко сопровождавшихся казнями монархов {4}.
В размышлениях о том, как жить дальше, следует дать толкование не менее амбивалентного термина «преобразование». Очевидно, что ответы, формулируемые, например, западниками и славянофилами, подразумевали бы нечто совершенно различное. И если в чем и сходились представители этих основных течений русской философской мысли, так это в их неприятии крепостнического строя. Именно его уничтожение и было, пожалуй, единственным, что считалось бесспорным обеими сторонами, имея в виду «позитивное преобразование». Но далее, как мы увидим из содержания анализируемых литературных и философских текстов, единство в толковании позитивного исчезало и почти каждый мыслитель искал и находил собственные содержательные смыслы, которыми наполнял это слово.
Однако в какой мере этот вопрос был характерен именно для земледельцев, то есть тех, чье мировоззрение мы и стремимся сделать целью исследования, равно как и для русского мировоззрения в целом? Здесь мы должны отметить, что поиски ответа на этот, как мы полагаем, фундаментальный вопрос русской жизни, естественно, не могли ограничиваться и не ограничивались лишь кругом людей, имевших непосредственное отношение к занятиям земледельческим трудом. В силу этого анализ мировоззрения тех, кто к аграрной сфере имел опосредованное отношение, по ряду причин нам также представляется необходимым. Во-первых, почти все те, кто впрямую не мог быть отнесен к сословию земледельцев, рождением, воспитанием или родством были связаны с российской деревенской средой, что означало, что в той или иной мере они выражали строй основных мыслей ее коренных представителей.
Во-вторых, рассуждая о связи вопроса о позитивных преобразованиях с жизнью людей, занятых аграрной практикой, необходимо отметить, что производимый деревней продукт в России того времени, пока еще глубоко не затронутой капиталистическими, в первую очередь индустриальными, преобразованиями, продолжал быть центральной доходной статьей ее национального бюджета, основой благосостояния огромного большинства населения. Уже этот факт значимости аграрного труда оказывал влияние на умонастроение всего общества, в том числе и на его мыслящую элиту.
Вопрос о крестьянстве и помещиках, об уничтожении или сохранении крепостного права, равно как и о путях дальнейшего развития деревни после состоявшейся отмены крепостничества, продолжал оставаться центральным в раздумьях людей разных социальных слоев о судьбе родины, о ее позитивном переустройстве в том числе {5}.
И наконец, в-третьих, проблематика тургеневских романов, к рассмотрению которых мы теперь переходим, имела отношение к теме мировоззрения русского земледельца и потому, что в значительной мере касалась вопросов о методах позитивных преобразований в России, характере и качествах «новых» людей, выходцах из земледельческого сословия. То, что именно новые герои русской литературы в качестве своего главного предмета деятельности будут иметь помещичье-крестьянскую среду, позволяет утверждать, что основная проблематика шести тургеневских романов напрямую связана с исследуемой нами темой.
Сделав эти предварительные замечания, обратимся к текстам романов И.С. Тургенева.
* * *История Дмитрия Рудина, главного героя одноименного тургеневского романа, – первое в русской классической литературе полномасштабное исследование проблемы не просто «лишнего» человека, но человека, который целенаправленно искал, но так и не нашел для себя ни содержательного профессионального занятия, ни приемлемых условий для жизни вообще. Главное внимание автора сосредоточено именно на тех личностных характеристиках и качествах героя, которые и сделали саму его жизнь несостоявшейся. (Примечательно, что гибнет Рудин на чужбине, на парижской баррикаде среди восставших, которые не только не знали его имени, но и вовсе считали поляком.) В этом контексте (несостоявшейся жизни) мы вместе с Рудиным проживаем значительный отрезок его бытия, а о других, не менее важных его жизненных событиях узнаем в подробных изложениях автора и иных персонажей произведения.
Сказав, что Рудин – лишний человек, и лишний именно в силу личностных качеств, мы должны хотя бы в первом приближении сопоставить его «лишность» с другими национальными персонажами – «лишними людьми» русской литературы, равно как и с другими героями романа. Так, вынужденно схематизируя, мы полагаем, что не только в силу личностных характеристик, но и по причине неблагоприятных для героев внешних обстоятельств «лишними» были несостоявшийся государственный чиновник Чацкий, неудавшийся помещик и семьянин Онегин, утративший интерес к жизни офицер Печорин, да и гоголевский горе-предприниматель Чичиков как одна из первых незаладившихся российских фигур новой, капиталистической эпохи.
В отличие от перечисленных «лишних» героев Рудин, в трактовке Тургенева, с первого его появления среди персонажей романа оказывается «лишним» именно из-за катастрофического отсутствия у него собственного занятия – дела. Вспомним начало романа. Помещицу Александру Павловну Липину мы застаем исполняющей одну из ее постоянных функций призрения – посещающей больную крестьянку. Возникающий тут же другой персонаж – Михаил Михайлович Лежнев – едет по своим хозяйственным, хлебно-зерновым делам, которыми занят настолько, что и сам, кажется, похож на мучной мешок. Встретившийся Липиной Константин Диомидыч Пандалевский тоже не без дела – выполняет непростые обязанности информатора, развлекателя и прихлебателя-затейника при капризной помещице Ласунской. А уж брат Липиной – Волынцев, управляющий ее имением, и вовсе надзирает в поле, где сеют гречиху.
В этом же ключе – отношения к делу – разворачивается и первый разговор, в котором Тургенев представляет нам Рудина. Напомним, что речь идет о статье друга Дмитрия Николаевича – Муффеля, в которой, как формулирует Рудин, есть «факты и убеждения». Заостряя внимание читателя, Тургенев прямо вкладывает в уста оппонента Рудина – спорщика-забияки Пигасова – главный предмет дальнейшего сюжета романа. В споре Рудин отстаивает важность «убеждений», «знания основных законов, начал жизни», без чего «нет почвы, на которой он (человек. – С.Н., В.Ф.) стоит твердо» и, стало быть, нет и самого дела. Пигасов же, как бы встраиваясь в общую череду героев, занятых, в противоположность Рудину, делом, настаивает: я практический человек, мне факты подавай[40]. Примечателен финал спора, завершить который достается Пигасову. В ответ на слова Рудина о «почве» Пигасов отвечает: «Честь и место!», тем самым как бы обозначая читателю главную тему произведения – о том, найдется ли для Рудина место на родной русской почве и будет ли его дело достойным чести. В данном несогласовании Рудина с позицией негативно-комедийного персонажа тем не менее скрыта, пожалуй, центральная авторская идея, на которой держится вся концепция романа: герой не только не имеет «дела жизни», которое есть у других персонажей, но и в принципе не способен к нему.
В дополнение к сказанному сообщим и еще об одном нашем наблюдении в связи с важным для Рудина понятием «почвы». Симптоматично, что она, «почва», будучи заявлена им как состоящая из убеждений, знания общих законов и начал бытия, в итоге, по его же свидетельству, оказывается ничем или, по крайней мере, чем-то явно недостаточным для полноценной жизни. В финале романа, в итоговом, в том числе и подводящем итоги жизни разговоре Рудина с Лежневым, Рудин признается: «Строить я никогда ничего не умел; да и мудрено, брат, строить, когда и почвы-то под ногами нету, когда самому приходится собственный свой фундамент создавать!»[41] В этом признании, отметим, наряду с критической самооценкой значительна и оправдательная компонента: не было (не получено по наследству) фундамента и тем самым как бы уменьшается собственная ответственность.
Впрочем, данное замечание, требующее обширных доказательств, подробно будет раскрыто нами в дальнейшем, по мере анализа центральных героев других произведений Тургенева и, в частности, Базарова в романе «Отцы и дети»[42]. Теперь же отметим, что наша точка зрения вновь отлична от позиции литературоведа А. Ботюто и некоторых других исследователей, которые полагали, что Тургенев изображает Рудина «без вины виноватым». «Инициатива его подавлена именно обстоятельствами. Она гаснет в обессиливающей атмосфере тупости, инертности, казенного бессердечия и затхлой бездуховности, царящих в матеро-косной дворянско-помещичьей и чиновно-бюрократической среде»[43].
Кстати, эта литературоведческая позиция – не «новодел» советского времени. Свое начало она ведет от революционного демократа Н.А. Добролюбова, который, отвечая на вопрос, отчего в России невозможно появление русского Инсарова, главный упор делал на порядок русской жизни, ориентированный на «самодовольство и сонный покой», который, как он полагал, нельзя «прошибить» «постепенством» малых дел, и – не договаривал, но угадывалось – необходимо было приближать время дел решительно-революционных[44].
Думается, что как минимум это не совсем так, то есть не во всем следует винить только «среду». Вспомним хотя бы одно из заключительных «предприятий» Рудина в связи с «превращением одной реки К…й губернии в судоходную». «…Мы наняли работников… ну, и приступили. Но тут встретились различные препятствия. Во-первых, владельцы мельниц никак не хотели понять нас, да сверх того мы с водой без машины справиться не могли, а на машину не хватило денег»[45]. В известной мере столь же несерьезным практическим расчетом отличаются и другие начинания Рудина.
Еще более надуманной кажется и оценка Рудина как представителя «передовой русской интеллигенции XIX века, той интеллигенции, которая, постоянно вступая в конфликтные отношения с косной и враждебной ей дворянско-крепостнической средой, настойчиво искала контакта с народом»[46] (выделено нами. – С.Н., В.Ф.). Контакта такого зачастую в принципе не могло быть, поскольку значительная часть российской словесности развивалась в русле провозглашенного правительством культурного курса на «православие, самодержавие, народность». Поэтому, как писал об этой части литературы В.Г. Белинский, «литература наша… делается до того православною, что пахнет мощами и отзывается пономарским звоном, до того самодержавною, что состоит из одних доносов, до того народною, что не выражается иначе, как по-матерну»[47].
В нашей оценке образа Рудина как «человека без дела», отчего он и терпит жизненное фиаско, мы расходимся и с позицией известного литературоведа Ю.В. Лебедева. Так, в трактовке начала романа, который, по нашему мнению, задает абрис главной темы «дела – безделья», у Лебедева совсем иное видение: «Рудин» открывается контрастным изображением нищей деревни и дворянской усадьбы. Одна утопает в море цветущей ржи, другая омывается волнами русской реки. В одной – разорение и нищета, в другой – праздность и призрачность жизненных интересов. Причем невзгоды и беды «забытой деревни» прямо связаны с образом жизни хозяев дворянских гнезд»[48]. Такой социально-политический окрас необходим Лебедеву для того, чтобы подтвердить, как он полагает, важность для Тургенева темы «призрачности существования состоятельного дворянства».
Верно, такая краска присутствует в палитре тургеневского творчества, что доказывается уже одним тем, что все происходящее в романе оценивается с народных позиций, за которыми угадывается сам автор. Вместе с тем у Тургенева, о чем пишут другие исследователи, в том числе и известный французский ученый Анри Труайя, никогда не было устремлений революционно-демократического свойства, тем более в форме «контрастного» изображения – противопоставления. Свидетельством тому и его знаменитые идейные расхождения с людьми добролюбовского типа.
Тургенева, на наш взгляд, прежде всего занимает вопрос о возможности позитивного дела в реальных условиях современной ему России, совершать которое, как он полагает, должны не одни только разночинцы. Отсюда его исследовательский анализ разных социальных типов из дворянской среды, а также героев – маргиналов, «полукровок», возникших в результате сближения дворянства с народом, каким был, например, один из героев «Нови» – Нежданов. Эта позиция находит подтверждение и известным фактом поисков прообраза для главного героя. Так, по свидетельству историков литературы, в Рудине угадываются черты известного революционера М. Бакунина. Что же касается его антипода по реальной жизни и хозяйственной практике, то в образе либерала-постепенца Лежнева, делавшего упор на реформирование, а не на революционную ломку, мы угадываем черты самого автора романа.
Мы не можем принять и лебедевское толкование о недостаточной цельности героя, якобы свойственной европейской цивилизации вообще (вот так, не больше и не меньше. – С.Н., В.Ф.), в которой «рациональный, умозрительный элемент развивается в ущерб непосредственным и неразложимым сердечным движениям. Самодовольный и самодовлеющий ум уничтожает полноту восприятия мира в его многоцветности, в его божественной гармонии»[49]. Впрочем, продолжает Лебедев, «мы чувствуем, что не все погублено в душе Рудина холодным аналитическим умом, что он способен подняться над собой, вступить в борьбу со своими недугами». И в качестве примера такого порыва Лебедев указывает на «речной» проект Рудина, а также на его попытку в одиночку перестроить всю систему гимназического образования[50].
Отстаиваемое Лебедевым удивительно и странно прежде всего потому, что компетентный исследователь не замечает тургеневской иронии и всерьез приводит эти примеры как контрдоводы против «чрезмерного рационализма» европейской цивилизации. Интересно, что́ по поводу этих проектов сказали бы гоголевские Костанжогло или Муразов, чеховский Варламов, не говоря уже о гончаровском Штольце. Впрочем, в этом предположении мы «хватили через край»: «немец» ведь русскому не указ!
Сказанное никак не меняет нашего мнения о том, что фигура Рудина совсем не одномерна и в созданной Тургеневым галерее образов, посредством которых он ищет ответ на вопрос о позитивном преобразовании России, у нее есть собственное место. В этой связи безусловно прав был А.Н. Некрасов, отмечавший, что Тургенев изображает «людей, стоящих еще недавно в главе умственного и жизненного движения, постепенно охватывавшего, благодаря их энтузиазму, все более и более значительный круг в лучшей и наиболее свежей части нашего общества. Эти люди имели большое значение, оставили по себе глубокие и плодотворные следы. Их нельзя не уважать, несмотря на все их смешные или слабые стороны»[51].
Отметив это, перейдем к более детальному рассмотрению образа Дмитрия Николаевича Рудина, видя в нем одно из многочисленных проявлений русского дворянина, корнями и местом обитания связанного с земледельческим бытием России, но трагически не находящего применения своим умственным и духовным устремлениям на родной земле.
Отчего так? В этой связи в первую очередь следует указать на то обстоятельство, что подлинное культурно-духовное становление Рудина относится не к бездельному деревенскому отрочеству, а к его юношескому пребыванию за границей, в Германии. То есть обусловленная тамошним его студенческим бытием жизнь в замкнутом корпоративном кружке, члены которого и одевались, и стригли волосы по-своему, одним словом, отделенность не только от русской почвы, но и от народной немецкой почвы, сделала Рудина для России чужаком. Только в тридцать пять лет он появляется на родине, в «деревенском салоне» помещицы Дарьи Михайловны Ласунской. Со многими персонажами галереи тургеневских героев Рудина роднит и то, что в России он – «пришелец», как «возвращенец» Лаврецкий, как «временный иммигрант» Инсаров.