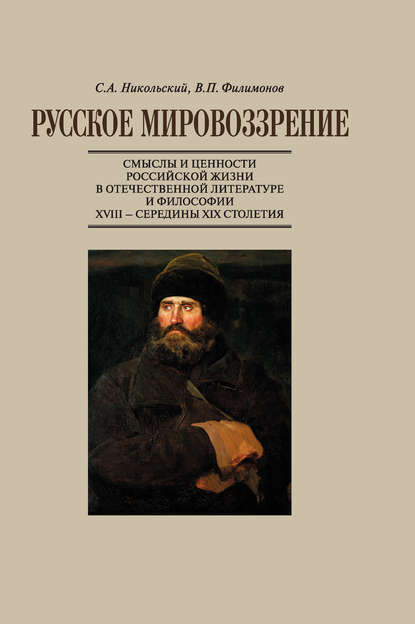Полная версия
Русское мировоззрение. Как возможно в России позитивное дело: поиски ответа в отечественной философии и классической литературе 40–60-х годов ХIХ столетия
По тем же причинам – отпадения от православия – происходит крах и племянника Александра Адуева, отошедшего от «простоты и наивности «младенческой веры» и не обретшего веру иную – мужественную, сознательную, когда преданность Божьей воле сочетается в человеке с мужеством исторического деятеля»[179].
Слов нет, предложенная В. Мельником трактовка возможна как исследовательская гипотеза. Но вот то, что она объявляет себя единственно верной, представляется сомнительным. Мнение, что все гончаровские герои обнаруживают «обытовленную» религиозность, может быть применено почти ко всем героям русской прозы XIX столетия. Таково было преимущественное состояние умов огромного большинства населения страны. «Евангелие» потому и является одной из культурных первооснов человеческой цивилизации, что содержит в себе универсальные и трансвременные человеческие коллизии, наполнено вневременными смыслами и ценностями. Именно в силу этой своей природы оно – наряду с иными основоположениями культуры, в том числе такими, как обыденное правосознание или альтруистические внутрисемейные отношения, – может быть применено и к романам Гончарова. Но вот то, что роман «Обыкновенная история» сводим исключительно или главным образом к коллизиям «Евангелия», представляется сомнительным. В своей конкретности он, несомненно, значительно более широк. А его герои, как мы старались показать, вовсе не столь одномерны, как это предлагается исследователем[180].
Завершая обзор мнений о трактовке образа Петра Ивановича Адуева, о природе столкновений племянника и дяди, отметим следующее. Постоянно разговаривая о соотношении разума и чувства, ума и сердца, герои романа на самом деле отстаивают собственные способы жизни, свои трактовки того, чем является в действительности и каким следует быть человеку, должен ли он быть деятелем или действительно удел достойного человека – недеяние, а также каковы должны быть его представления, в том числе и о себе самом. То есть речь идет о столкновении разных типов (не проявляется ли в этом еще одна форма расколотости?) российского мировоззрения и самосознания. И здесь, продолжая начатую линию рассмотрения изобретенных критиками «пороков и темных сторон» Петра Ивановича Адуева, попробуем и мы совершить, по возможности беспристрастный, анализ этой непростой фигуры. Сделать это тем более важно, что и Белинский справедливо видел в этом образе один из немногих примеров «делового человека», встречающихся в современной ему отечественной прозе.
* * *Возможность максимально полного и непредвзятого анализа, на наш взгляд, дает прежде всего метод последовательного рассмотрения содержания бесед Александра с Петром Ивановичем, равно как и анализ совершаемых дядей поступков.
Итак, в эпизоде первом Петру Ивановичу предстоит сделать принципиальный выбор – принимать или не принимать на себя заботу о свалившемся ему на голову деревенском племяннике. Фон для этого непростого решения создают привезенные Александром письма – от жены брата Петра Ивановича и от ее сестры, за которой Петр Иванович в молодости, как мы узнаем из ее письма, немного ухаживал. Надо отметить, что предмет воздыханий молодого Петра Ивановича в своем теперешнем виде являет феномен, спокойное отношение к которому требует немалых сил. «Остающаяся по гроб ваша», как она завершает письмо, Марья Горбатова, оказывается, после знакомства с Петром Ивановичем не просто осталась старой девой, но чуть не сознательно «обрекла себя на незамужнюю жизнь»(!), что, оказывается, теперь дает ей возможность счастливо «воспоминать блаженные времена», не будучи подвергнутой вездесущей цензуре мужа. Что же из «времен»? Например, сюжет о том, как молодой Петр Иванович лазал для девушки в пруд, дабы сорвать желтый цветок, а поскольку последний обильно источал сок и перепачкал юноше и девушке руки, то он, Петр Иванович, пожертвовал и картузом, чтоб зачерпнуть в оном пруде воды для омовения дланей своих и юной особы.
Петру Ивановичу, следовало далее из письма, ежели он оказывался женатым, надлежало «открыть эту тайну» Марье Горбатовой, коя обещала хранить ее вечно. Расстаться же с ней она допускала возможность лишь в том случае, если неизвестные злоумышленники «вырвут ее у нее из груди вместе с сердцем». Мысль же, что Петр Иванович вдруг обнаружил себя «извергом, как все мужчины», то есть забыл Марью, вовсе не допускалась. Напротив, высказывалась уверенность, что он «сохранил к ней все прежние чувствования среди роскоши и удовольствий великолепной столицы». Попутно отметим, что весь этот дурно состряпанный винегрет эмоций несколько в иных терминах будет воспроизводить и Александр, говоря о своей деревенской пассии и о сердечном друге.
Во втором письме – от жены брата, Петра Ивановича – просили принять Сашеньку «на свое попечение», спать с ним в одной комнате, дабы переворачивать с боку на бок при проявлениях беспокойства во сне и вовремя закрывать платком рот, чтобы в него под утро, не дай бог, не набились мухи. Предлагалось также остерегать юношу от карт, вина, дурных друзей и содействовать благорасположению к нему начальства.
Что же этот исключительно прагматичный с «чертами демона» столичный господин? Он – какой грех! – не бросается опрометью встречать племянника, а предварительно размышляет. При этом заключает, что Александра он не знает и, стало быть, не любит. Что прошлое и, не дай бог, воспоминания о Марье не налагают на него никаких обязательств. Вместе с тем он вспоминает, как тепло семнадцать лет назад мать Саши провожала в северную столицу его самого и как просила, когда подрастет Сашенька, помочь ему также обустроиться в Петербурге. К тому же, справедливо рассудив, что племянник вряд ли ровня ему даже прежнему, каким он сам был семнадцать лет назад, Петр Иванович подумал, что в столице с Сашей может случиться что-нибудь недоброе и ему, его дяде, придется отвечать перед своей совестью. Обдумав все это, он дает распоряжение лакею – когда племянник придет, его принять, а заодно, чтоб было сподручнее в какой-то форме последнего призреть, снять для него помещение над дядюшкиной квартирой.
Второй эпизод происходит в комнате у Александра, куда Петр Иванович приходит, чтобы узнать о планах племянника на жизнь в столице. Напомним, что перед этим Александр прогулялся по городу и воротился домой, «считая себя гражданином нового мира…». Что же этот новый вершитель человеческих судеб собирается делать? На прямой вопрос дядюшки следует ответ: «Я приехал… жить. …Пользоваться жизнию, хотел я сказать, – прибавил Александр, весь покраснев, – мне в деревне надоело – все одно и то же… Меня влекло какое-то неодолимое стремление, жажда благородной деятельности; во мне кипело желание уяснить и осуществить… Осуществить те надежды, которые толпились…»[181]
Как же реагирует на этот бессмысленный лепет дядя? Благородно. С пониманием и вполне терпимо: «…ты, кажется, хочешь сказать …что ты приехал сюда делать карьеру и фортуну, – так ли?» Более того, он постепенно начинает, одновременно предостерегая, вводить племянника в круг реальных проблем: «…да у тебя, кажется, натура не такая, чтоб поддалась новому порядку; а тамошний порядок – ой, ой! Ты вон изнежен и избалован матерью; где тебе выдержать все… Ты, должно быть, мечтатель, а мечтать здесь некогда; подобные нам ездят сюда дело делать. …Вы помешались на любви, на дружбе да на прелестях жизни, на счастье; думают, что жизнь только в этом и состоит: ах да ох! Плачут, хнычут да любезничают, а дела не делают… как я отучу тебя от всего этого? – мудрено! …Право, лучше бы тебе остаться там. Прожил бы ты век свой славно: был бы там умнее всех, прослыл бы сочинителем и прекрасным человеком, верил бы в вечную и неизменную дружбу и любовь, в родство, счастье, женился бы и незаметно дожил до старости и в самом деле был бы по-своему счастлив; а по-здешнему ты счастлив не будешь: здесь все эти понятия надо перевернуть вверх дном»[182].
Разве не прав дядя? Разве не заботлив, хотя и не берется прикрывать платком племяннику рот от утренних мух? Разве по-хорошему, но не назойливо, а в меру, не нравоучителен? А вот и финал разговора: «Я предупрежу тебя, что хорошо, по моему мнению, что дурно, а там как хочешь… Попробуем, может быть, удастся что-нибудь из тебя сделать»[183]. Согласимся, что, оценив то, что продемонстрировал Александр, решение дяди – большой аванс и уж точно груз, возлагаемый на самого себя. Спрашивается: зачем? И кроме как на родственные чувства и благодарность за доброту к нему самому в далеком прошлом, указать не на что. Ну чем не демонический персонаж!
А вот и третий, может быть, наиболее важный эпизод – с письмом, в котором Александр описывает деревенскому другу своего дядю, в том числе и со словами юноши, так встревожившими воображение Ю.М. Лощица: «Я иногда вижу в нем как будто пушкинского демона…» (Выделено нами. Именно с такими оговорками, а не как у литературоведа: за исключением двух-трех романтических деталей, у дяди все, как у пушкинского демона. – С.Н., В.Ф.) Как мы помним, в письме Александр сетует на то, что дядя «не дал ему места в сердце», «не согревает горячими объятиями дружбы», «его сердцу чужды все порывы любви, дружбы, все стремления к прекрасному», он «сильных впечатлений не знает и, кажется, не любит изящного: оно чуждо душе его; я думаю, он не читал даже Пушкина…»[184]
Притом Александр, как выясняется, успев написать письмо к другу и к своей деревенской возлюбленной Софье, так и не удосужился написать матери. Примечательны и его «планы» на фортуну и карьеру. Так, в своих представлениях о службе и возможной для себя должности через пару месяцев он не прочь стать начальником отделения, а через год, пожалуй, и министром…
Кульминация эпизода – чтение дядей письма о себе и диктовка Александру нового текста. Как же определяет себя Петр Иванович? Да, он делает для Александра добро, потому что сам когда-то видел добро от его матери. И это правда. Петр Иванович диктует Александру: «Дядя мой ни демон, ни ангел, а такой же человек, как все… Он думает и чувствует по-земному, полагает, что, если мы живем на земле, так и не надо улетать с нее на небо, где нас теперь пока не спрашивают, а заниматься человеческими делами, к которым мы призваны. Оттого он вникает во все земные дела и, между прочим, в жизнь, как она есть, а не как бы нам ее хотелось. Верит в добро и вместе в зло, в прекрасное и в прескверное. Любви и дружбе тоже верит, только не думает, что они упали с неба в грязь, а полагает, что они созданы вместе с людьми и для людей, что их так и надобно понимать и вообще рассматривать вещи пристально, с их настоящей стороны, а не заноситься бог знает куда. Между честными людьми он допускает возможность приязни, которая от частых сношений и привычки обращается в дружбу. Но он полагает также, что в разлуке привычка теряет силу, и люди забывают друг друга, и что это вовсе не преступление. …О любви он того же мнения, с небольшими оттенками: не верит в неизменную и вечную любовь, как не верит в домовых… Это…придет само собою – без зову; говорит, что жизнь не в одном только этом состоит, что для этого, как для всего прочего, бывает свое время, а целый век мечтать об одной любви – глупо. Те, которые ищут ее и не могут ни минуты обойтись без нее, – живут сердцем, и еще чем-то хуже, на счет головы. Дядя любит заниматься делом, что советует и мне, а я тебе: мы принадлежим к обществу, говорит он, которое нуждается в нас; занимаясь, он не забывает и себя: дело доставляет деньги, а деньги комфорт, который он очень любит. Притом у него, может быть, есть намерения, вследствие которых, вероятно, не я буду его наследником. Дядя не всегда думает о службе да о заводе, он знает наизусть не одного Пушкина… Он читает на двух языках все, что выходит замечательного по всем отраслям человеческих знаний, любит искусства, имеет прекрасную коллекцию картин фламандской школы – это его вкус, часто бывает в театре, но не суетится, не мечется, не ахает, не охает, думая, что это ребячество, что надо воздерживать себя, не навязывать никому своих впечатлений, потому что до них никому нет надобности. Он также не говорит диким языком; что советует и мне…»[185]
Согласимся, что в дядиных самохарактеристиках нет ни приукрашивания, ни позы, что они свидетельствуют о спокойном, трезвом взгляде на себя и мир. И что если и можно было бы признать за ним проявление холодности, в которой так часто упрекают героя, так для восторгов и ярких эмоций нет поводов, а предмет разговора или личность Александра таких оснований также не дают. Действительно, Александр – юноша восторженный, эмоциональный, честный, но незатейливый и даже довольно ограниченный, а потому для дяди и малоинтересный. (Отметим еще раз, что дядя знает наизусть не одного Пушкина, неплохо разбирается в живописи, давно и содержательно живет в столице, да и старше племянника минимум на пятнадцать лет.) И потому такое событие, как явление юного деревенского родственника и его личность, интеллектуальную жизнь и эмоциональную сферу Петра Ивановича, естественно, сколь-нибудь сильно затронуть не могли. Нам очевидно, что возможность вызвать интерес в фигуре такого калибра не по силам для юного провинциала. И спасибо за то, что дядя, добравшись до действительно впечатляющих хозяйственно-служебных высот, не сделался, как многие бы на его месте, снобом, не потерял человеческого облика и в самом деле не надел на себя одну из личин демона. И сохранила его в человеческом облике прежде всего культура, неотъемлемой частью которой всегда были и остаются разум и личный труд человека.
Прошло без малого два года. По всем меркам Александр, кажется, уже должен был бы освоиться в столице и хотя бы в небольшой мере изменить свою патриархально-деревенскую систему представлений и ценностей. Этого, однако, не происходит. И хотя произошедший с ним конкретный случай – любовная измена – предмет особого разговора, в котором голос разума всегда звучит несравнимо слабее зова чувств, оба – и дядя, и племянник – проявляют себя в полной мере, и у нас снова является случай рассмотреть Петра Ивановича попристальнее. Что же открывает нам четвертый романный эпизод?
Случившаяся с Александром любовная неудача, при всей болезненности лично для него, на самом деле случай довольно обычный. И, надо отдать ему должное, Петр Иванович принимается за дело усердно и терпеливо. В ответ на громкие, с элементами мелодрамы дурного пошиба жалобы и упреки Александра («печальная повесть моего горя»; я узнал людей: «жалкий род, достойный слез и смеха!»; «унесу из толпы разбитое, но чистое от низостей сердце, душу растерзанную, но без упрека во лжи, в притворстве, в измене, не заражусь…»; «эта жизнь хуже ста смертей»; «не он ли уничтожил мое блаженство? Он, как дикий зверь, ворвался…»; «я отомщу ей!») дядя находит верный тон. Он мягко иронизирует, снижает ненужный пафос и мелодраматизм, задает здравые вопросы, взывает к разуму, старается показать Александру резоны не только его собственного обиженного сердца, но всех участвующих в событии сторон. Он даже благородно не акцентирует очевидность: ведь Александр, несмотря на клятвы и «вещественные знаки невещественных отношений» – вечной любви и верности, благополучно забыл свою деревенскую пассию – Софью и, стало быть, тоже изменил ей. А ведь мог бы, – хотя бы для того, чтобы охладить пыл племянника в отношении «презренной изменницы» и вероломного соперника.
Бог весть, сколько ночной разговор продолжался в романном времени, но даже изложение истории занимает главу из двадцати страниц. При этом дядя все время участливо-рассудительно пытается если не переубедить, то, по крайней мере, показать и смягчить очевидное – варварство и дикость взглядов Александра на отношения мужчин и женщин, на представляющееся ему верным соотношение разума и чувств. И может быть, самое главное – он произносит слова, которые могут исходить только от человека, благодаря экономической деятельности и культуре уже принадлежащего капиталистическому обществу, и которые адресованы человеку общества феодального, с крепостным состоянием и закрепощенным сознанием. Конечно, это слова, сказанные в связи с конкретным поводом, но даже и они указывают на громадность дистанции, которая разделяет племянника и дядю. «Что бы женщина ни сделала с тобой, изменила, охладела, поступила, как говорят в стихах, коварно, – вини природу, предавайся, пожалуй, по этому случаю философским размышлениям, брани мир, жизнь, что хочешь, но никогда не посягай на личность (выделено нами. – С.Н., В.Ф.) женщины ни словом, ни делом. Оружие против женщины – снисхождение, наконец самое жестокое – забвение! Только это и позволяется порядочному человеку»[186].
Конечно, в разговоре есть вещи, в которых и дядя дает промашку. Это, безусловно, высказанные вслух, в «просвещенческом» запале, слова о том, как «надо уметь образовать из девушки женщину по обдуманному плану, если хочешь, чтобы она поняла и исполнила свое назначение. …очертить ее магическим кругом… овладеть… ее умом, волей, подчинить ее вкус…»[187] и т. д. Впрочем, для успокоения Александра эта небольшая промашка не важна. Дядина «речетерапия» приносит несомненную пользу: стоило только Петру Ивановичу приостановиться, как Александр тут же подталкивает его: «Ах, говорите, ради бога, говорите!»
И неважно, что в конце беседы Адуев-младший начинает плакать и дядя, не зная, что делать, призывает на помощь жену. Через час Александр уходит успокоенным, а жена Петра Ивановича, напротив, возвращается в спальню с заплаканными глазами. И дело, конечно, не в том, что сухарь-дядя не сумел успокоить племянника или поплакать вместе с ним, а это удалось сердечной женщине, и, стало быть, сердце оказывается сильнее разума. Думаем, что по большому счету именно дядины доводы наконец-то возымели действие, равно как и эмоции стали знакомым обрамлением для наконец-то успокоенного ума, и тетушкино сочувствие было лишь средством в очередной раз потрафить привычному психологическому стереотипу.
Здесь, однако, следует сделать существенную оговорку. К разуму дядя взывает, естественно, со своих позиций, то есть имея под собой мощную культурную основу, собственный реальный опыт хозяйствования, ответственности серьезной государственной службы. Всего этого нет у Александра. Вот почему, когда в финале он предстает одномерно-расчетливым заурядным циником, читатель не слишком удивляется. Адуев-младший из своего феодально-крепостнического бытия со всеми его атрибутами жизни за чужой счет не переживает глубинного профессионально-личностного преображения, в том числе не переделывается в фигуру капиталистического общества. В существе своем он по-прежнему остается провинциальным помещиком и лишь наконец находит свой способ сосуществования с новым для него внешним миром. Отсюда – его приспособленческое решение жениться исключительно на связях и деньгах и вовсе без любви. И в этом он, кстати, тоже противоположен дяде.
Что же до поступка Петра Ивановича оставить свое успешное продвижение по хозяйственной стезе и карьерной лестнице ради любимого человека, который при такой жизни, какой он живет, может заболеть (отметим еще раз: не уже реально заболел, а только, по свидетельству доктора, может. – С.Н., В.Ф.), показывает дядину силу чувства, о котором столько распространялся Александр и на которое он конечно же не способен. А способен «сухарь» и даже, как его иногда трактуют, «демон». Именно Петр Иванович обнаруживает подлинное душевное богатство. Таков финал романа.
Как же это стало возможным? И что за шутку играет с читателем И.А. Гончаров? Об этом большой разговор впереди. Пока же, забегая вперед, отметим, что, на наш взгляд, такие повороты человеческой природы не бывают спонтанны, не возникают из ничего или в результате стечения лишь внешних обстоятельств. Напротив. Они всегда растут из глубин личности и притом длительный срок. Думаем, что почвой для внешне неожиданного и далеко не всеми (включая литературных критиков прошлого и настоящего) понятого поступка Адуева-дяди была та самая культура, которую несет с собой высвободившаяся из феодальных пут человеческая личность, которая находит свое внешнее проявление, например, в любви к фламандской школе и в знании Пушкина. Точно так же, как выверт Александра в ловкача-приспособленца происходит из традиционного российского деревенского примитива, пошлости и паразитического бытия, жизни посредством эксплуатации Евсеев и подобных им трудолюбивых пчел. При таком раскладе ум и трезвый расчет, обнаруживаемые дядей, оказываются в романе Гончарова ничуть не менее важными инструментами формирования деятельной творческой личности, чем проявляемые его женой чувственность и сердечность. Впрочем, оговоримся, что обнаруживаемые женой Петра Ивановича качества глубоко отличаются от внешне подобных им, но содержательно грубых эрзацев, демонстрируемых Александром или его матерью. И признать это необходимо вопреки тому, что ими обычно гордятся отечественные радетели русской старины, использующие их для прикрытия собственного безделья, культурной серости, интеллектуальной пустоты.
* * *Уделив много внимания рассмотрению личности и характера Петра Ивановича в первой части романа, во второй его части Гончаров центром анализа делает молодого Адуева. Именно с ним происходит ряд историй, причем все они связаны с его новыми любовными приключениями, объяснение чему мы находим не только в том, что Александр почти вовсе отказался от труда и карьерных целей, но и в силу того, что именно здесь в наибольшей мере видны проявления природы сердца, которую тщательно изучает автор. К тому же со времени описанных в первой части романа событий пятилетнего периода минул еще год пребывания в столице младшего Адуева. Произошли ли в нем перемены и каковы они?
Как сообщает автор, в последний год психологически Александр перешел от состояния «мрачного отчаяния» к «холодному унынию». Однако идейно и мировоззренчески серьезных перемен не претерпел. В своих разговорах с тетушкой он все так же безапелляционно рассуждает о взаимной обязанности любящих людей видеть друг в друге альфу и омегу бытия, в прямом смысле «посвятить друг другу» свою жизнь, «лежать у ног», не замечать никого, кроме любимого предмета. Причем то, что мы только что называли чувственным «эрзацем», свойственным любому недостаточно цивилизованному, окультуренному человеку, у Александра сопряжено с проявлениями крайнего эгоцентризма, неблагодарности и даже безжалостности. Так, высокопарно рассуждая в разговоре с Лизаветой Александровной о своем сердце и «высоких» чувствах, Александр беззастенчиво замечает ей о чувствах ее мужа: «Не хотите ли вы уверить меня, ma tante, что такое чувство, как дядюшкино, например, прячется?» Больно задетая тетушка краснеет.
Вообще слово «сердце», как и предмет, им обозначаемый, в этой части романа становится объектом пристального рассмотрения и конечно же в паре с разумом. Так, из рассказа Александра о встрече с другом юности, который, по его мнению, не был с ним достаточно сердечен, мы узнаем, что сердце – это именно и есть тот орган, состояние которого определяет поведение героя. Вот как об этом говорит сам Александр. Сердце – место, в котором («в уголке») он всегда хранил память о своем друге. Сердце «кипит», когда друг не уделяет ему, как кажется Александру, достаточного внимания. С другом Александр желал бы говорить о том, что «ближе к сердцу». Александр удивлен, не верит тому, что у друга до такой степени могло «огрубеть сердце».
Рассуждения эти – не одна только наивность. Авторский голос, включающийся в беседу Александра с тетушкой, констатирует: «Лизавете Александровне стало жаль Александра; жаль его пылкого, но ложно направленного сердца. Она увидела, что при другом воспитании и правильном взгляде на жизнь он был бы счастлив сам и мог бы осчастливить кого-нибудь еще; а теперь он жертва собственной слепоты и самых мучительных заблуждений сердца. Он сам делает из жизни пытку. Как указать настоящий путь его сердцу? Где этот спасительный компас? Она чувствовала, что только нежная, дружеская рука могла ухаживать за этим цветком»[188]. И еще: «Бедный Александр! У него ум нейдет наравне с сердцем, вот он и виноват в глазах тех, у кого ум забежал слишком вперед, кто хочет взять везде только рассудком…» – формулирует свое понимание тетушка в разговоре с Петром Ивановичем.
Итак, все стороны, включая автора, свои позиции в отношении «центрального человеческого органа» обозначили, и наступает время для его, этого органа, проверки. Повод прост: Лизавета Александровна просит мужа дать Александру «легкий урок» на тему сердца, дружбы и любви, и Петр Иванович соглашается. Отбросив романтические фразеологизмы насчет «идеального мира», в котором дружба являет себя в кинжальном «кровопролитии» и любви, при которой происходит переход «в существование другого», Петр Иванович доходит до, кажется, простой вещи – поведения самого Александра. При этом оказывается, что, осуждая, порицая, клеймя и презирая всех, молодой Адуев просто неблагодарен и эгоистичен, потому что сосредоточен исключительно на себе самом и уверен, что от других он может требовать многого, к тому же, как он полагает, причитающегося ему «по всем правам». Таков вердикт дядюшки. Впрочем, мнение Лизаветы Александровны иное: «Я, Александр, не перестану уважать в вас сердце… Чувство увлекает вас и в ошибки, оттого я всегда извиню их»[189].