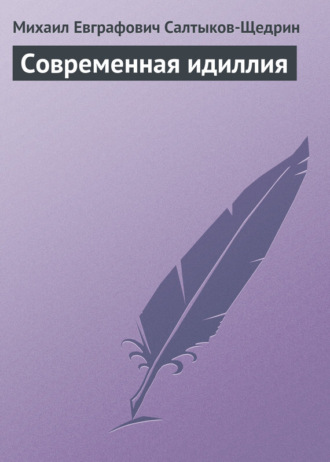 полная версия
полная версияСовременная идиллия
– А теперь, исполнивши наш долг относительно Адмиралтейской площади и отдавши дань заботливости городской думы, идем к окончательной цели нашего путешествия, как оно проектировано на нынешний день!
Мы пошли на Сенатскую площадь и в немом благоговении остановились перед памятником Петра Великого. Вспомнился „Медный всадник“ Пушкина, и тут же кстати пришли на ум и слова профессора Морошкина о Петре:
„Но великий человек не приобщался нашим слабостям! Он не знал, что мы плоть и кровь! Он был велик и силен, а мы родились и слабы и худы, нам нужны были общие уставы человеческие!“[3]
Я повторил эти замечательные слова, а Глумов вполне одобрил их. Затем мы бросили прощальный взгляд на здание сената, в котором некогда говорил правду Яков Долгорукий, и так как программа гулянья на нынешний день была уже исчерпана и нас порядком-таки одолевала усталость, то мы сели в вагон конно-железной дороги и благополучно проследовали в нем до Литейной.
Было уже четыре часа, когда мы воротились домой, следовательно, до обеда оставался еще час. Глумов отправился распорядиться на кухню, а мне дал картуз табаку, пачку гильз и сказал:
– Займись!
Наконец подали обедать. Никогда не едал я так вкусно. Во-первых, никогда не приходилось делать подобного предобеденного моциона, а во-вторых, мы ели на свободе, без всяких политических соображений, „без тоски, без думы роковой“, памятуя твердо, что ничего другого, кроме еды, нам не предстоит. Поэтому каждый кусок был надлежащим образом прожеван, а следовательно, и до желудка дошел в формах, вполне согласных с требованиями медицинской науки. Подавали на закуску: провесную белорыбицу и превосходнейшую белужью салфеточную икру; за обедом удивительнейшие щи с говяжьей грудиной, потом осетрину паровую, потом жареных рябчиков, привезенных прямо из Сибири, и наконец – компот из французских фруктов. Само собой разумеется, что при каждой перемене кушанья возникал приличный обстоятельствам разговор.
Давно, очень давно дедушка Крылов написал басню „Сочинитель и разбойник“, в которой доказал, что разбойнику следует отдать предпочтение перед сочинителем, и эта истина так пришлась нам ко двору, что с давних времен никто и не сомневается в ее непререкаемости. Позднее тот же дедушка Крылов написал другую басню „Три мужика“, в которой образно доказал другую истину, что во время еды не следует вести иных разговоров, кроме тех, которые, так сказать, вытекают из самого процесса еды. Этою истиною мы долгое время малодушно пренебрегали, но теперь, когда теория и практика в совершенстве выяснили, что человеческий язык есть не что иное, как орудие для выражения человеческого скверномыслия, мы должны были сознаться, что прозорливость дедушки Крылова никогда не обманывала его.
Мы солидно ели и» вели солидный разговор об еде. И по мере того, как обед развивался, перед нами открывались такие поразительные перспективы, которых мы никогда и не подозревали. Я покупал говядину в какой-то лавочке «на углу»; Глумов – на Круглом рынке; я покупал рыбу в Чернышевом переулке, Глумов – на Мытном дворе; я приобретал дичь в первой попавшейся лавке, на дверях которой висел замороженный заяц, Глумов – в каком-то складе, близ Шлиссельбургской заставы. Бесхозяйственность моя обнаружилась во всем ужасающем безобразии, так что я тут же мысленно решил, что без радикальных реформ обойтись невозможно.
– Ты сообрази, мой друг, – говорил я, – ведь по этому расчету выходит, что я, по малой мере, каждый день полтину на ветер бросаю! А сколько этих полтин-то в год выйдет?
– Выйдет триста шестьдесят пять полтин, то есть ста восемьдесят два рубля пятьдесят копеек.
– Теперь пойдем дальше. Прошло с лишком тридцать лет с тех пор, как я вышел из школы, и все это время, с очень небольшими перерывами, я живу полным хозяйством. Если б я все эти полтины собирал – сколько бы у меня теперь денег-то было?
– Тысячу восемьсот двадцать пять помножь на три – выйдет пять тысяч четыреста семьдесят пять рублей.
– Это ежели без процентов считать. Но я мог эти сбережения… ну, положим, под ручные залоги я бы не отдал… а всетаки я мог бы на эти сбережения покупать процентные булат, дисконтировать векселя и вообще совершать дозволенные законом финансовые операции… Расчет-то уж выйдет совсем другой.
– Да, брат, обмишулился ты!
– И заметь, что у тебя провизия превосходная, а у меня – только посредственная. Возьми, например, твоя ли осетрина или моя?
– Нет, вот я завтра окорочок велю запечь, да тепленький-тепленький на стол-то его подадим! Вот и увидим, что ты тогда запоешь!
– Ты где окорока покупаешь?
– Угадай!
– У Шписа? у Людекенса!
– В Мучном переулке!!!
– Скажите на милость!
Словом сказать, разочарование следовало за разочарованием, но, вместе с тем, являлась и надежда на исправление, а это-то, собственно, и было дорого. Ибо давно уже признано, что одни темные стороны никогда никого не удовлетворяют, если они не смягчаются светлыми сторонами, или, за недостатком их, «нас возвышающими обманами»! Так что, например, человек, которого обед состоит из одной тюри с водой, только тогда будет вполне удовлетворен, ежели при этом вообразит, что ест наварные щи и любуется плавающим в них жирным куском говядины.
Этих мыслей я, впрочем, не высказывал, потому что Глумов непременно распек бы меня за них. Да я и сам, признаться, не придавал им особенного политического значения, так что был даже очень рад, когда Глумов прервал их течение, пригласив меня в кабинет, где нас ожидал удивительной красоты «шартрез».
Был седьмой час в половине, когда мы встали из-за стола. Мы сели друг против друга в мягкие кресла, закурили какие-то необычайные nec plus ultra[4] и медленно, с толком дегюстировали послеобеденные рюмки, наполненные золотистой жидкостью. Хорошо нам было. Я не скажу, чтоб это был сон, но казалось, что какая-то блаженная дремота, словно легкая дымка, спускалась откуда-то с высоты и укачивала утомленное непривычным моционом тело. Сомкнув усталые вежды, мы молча предавались внутренним созерцаниям и изредка потихоньку вздрагивали. Наконец из груди Глумова вырвался стон, который сразу возвратил и его и меня к чувству действительности.
– А ведь я, брат, чуть-чуть не заснул, – удивился он и тут же громким голосом возопил: – зельтерской воды… и умыться!
Выпили по бутылочке зельтерской воды, потом умылись и сделались опять так же свежи и бодры, как будто, только сей час отстоявши раннюю обедню, собрались по-христиански провести день свой.
Было около половины девятого, когда мы сели вдвоем в сибирку с двумя болванами. Мы игроки почти ровной силы, но Глумов не обращает внимания, а я – обращаю. Поэтому игры бывают преинтересные. Глумов горячится, не рассчитывает игры, а хочет сразу ее угадать – и попадает впросак; а я, разумеется, этим пользуюсь и записываю штраф.
В конце концов я почти всегда оказываюсь в выигрыше, но это нимало не сердит Глумова. Иногда мы даже оба от души хохочем, когда случается что-нибудь совсем уж необыкновенное: ренонс, например, или дама червей вдруг покажется за короля. Но никогда еще игра наша не была так весела, как в этот раз. Во-первых, Глумов вгорячах пролил на сукно стакан чаю; во-вторых, он, имея на руках три туза, получил маленький шлем! Давно мы так не хохотали.
В одиннадцать часов мы встали из-за карт и тем же порядком, как и накануне, улеглись спать.
– А что, брат, годить-то, пожалуй, совсем не так трудно, как это с первого взгляда казалось? – сказал мне на прощание Глумов.
Я возобновил в своей памяти проведенный день и нашел, что, по справедливости, ничего другого не остается, как согласиться с Глумовым.
Действительно, все мысли и чувства во мне до того угомонились, так сказать, дисциплинировались, что в эту ночь я даже не ворочался на постели. Как лег, так сейчас же почувствовал, что голова моя налилась свинцом и помертвела. Какая разница с тем, что происходило в эти же самые часы вчера!
На другой день я проснулся в восемь часов утра, и первою моею мыслью было возблагодарить подателя всех благ за совершившееся во мне обновление…
II
Глумов сказал правду: нужно только в первое время на себя поналечь, а остальное придет само собою. Исключительно преданные телесным упражнениям, мы в короткий срок настолько дисциплинировали наши естества, что чувствовали позыв только к насыщению. Ни науки, ни искусства не интересовали нас; мы не следили ни за открытиями, ни за изобретениями, не заглядывали в книги, не ходили в заседания педагогического общества, не сочувствовали ни славянам, ни туркам и совсем позабыли о существовании Мак-Магона. Даже чтение газетных строчек сделалось для нас тягостным…
По-прежнему колесили мы по Петербургу, но, проходя мимо памятников, которые некогда заставляли биться наши сердца, уже не чувствовали ничего такого, что заставляло бы нас лезть на стену. Мы прежде всего направляли стопы на Круглый рынок и спрашивали, нет ли каких новостей; оттуда шагали на Мытный двор и почти с гневом восклицали: да когда же наконец белорыбицу привезут? Во всех съестных лавках нас полюбили как родных, во-первых, за то, что мы, не торгуясь, выбирали лучшие куски, а во-вторых (и преимущественно), за то, что мы обо всем, касающемся съестного, во всякое время могли высказать «правильное суждение». Это «правильное суждение» приводило в восхищение и хозяев и приказчиков.
– Не то дорого, что вы покупатели, лучше каких желать не надо, а любовь, да совет, да умное ваше слово – вот что всяких денег дороже! – говорили нам везде.
В согласность с этою жизненною практикой выработалась у нас и наружность. Мы смотрели тупо и невнятно, не могли произнести сряду несколько слов, чтобы не впасть в одышку, топырили губы и как-то нелепо шевелили ими, точно сбираясь сосать собственный язык. Так что я нимало не был удивлен, когда однажды на улице неизвестный прохожий, завидевши нас, сказал: вот идут две идеально-благонамеренные скотины!
Даже Алексей Степаныч (Молчалин) и тот нашел, что мы все ожидания превзошли.
Зашел он ко мне однажды вечером, а мы сидим и с сыщиком из соседнего квартала в табельку играем. Глаза у нас до того заплыли жиром, что мы и не замечаем, как сыщик к нам в карты заглядывает. То есть, пожалуй, и замечаем, но в рожу его треснуть – лень, а увещевать – напрасный труд: все равно и на будущее время подглядывать будет.
– Однако спесивы-таки вы, господа! и не заглянете к старику! – начал было Алексей Степаныч и вдруг остановился.
Глядит и глазам не верит. В комнате накурено, нагажено; в сторонке, на столе, закуска и водка стоит; на нас человеческого образа нет: с трудом с мест поднялись, смотрим в упор и губами жуем. И в довершение всего – мужчина необыкновенный какой-то сидит: в подержанном фраке, с светлыми пуговицами, в отрепанных клетчатых штанах, в коленкоровой манишке, которая горбом выбилась из-под жилета. Глаза у него наперекоски бегают, в усах объедки балыка застряли, и капли водки, словно роса, блестят…
Сел, однако ж, Алексей Степаныч, посидел. Заметил, как сыщик во время сдачи поднес карты к губам, почесал ими в усах и моментально передернул туза червей.
– А ты, молодец, когда карты сдаешь, к усам-то их не подноси! – без церемоний остановил его старик Молчалин и, обратившись к нам, прибавил: – Ах, господа, господа!
– Он… иногда… всегда… – вымолвил в свое оправдание Глумов и чуть не задохся от усилия.
– То-то «иногда-всегда»! за эти дела за шиворот, да в шею! При мне с Загорецким такой случай был – помню!
Когда же, по ходу переговоров, действительно, оказалось, что у сыщика на руках десять без козырей, то Алексей Степаныч окончательно возмутился и потребовал пересдачи, на что сыщик, впрочем, очень любезно согласился, сказав:
– Чтобы для вас удовольствие сделать, я же готов хотя пьятнадцать раз зряду сдавать – и все то самое буде!
И точно: когда он сдал карты вновь, то у него оказалась игра до того уж особенная, что он сам не мог воздержаться, чтоб не воскликнуть в восторге:
– От-то игра!
Далее Алексей Степаныч уж не протестовал, а только повздыхал еще с полчаса и удалился, сказав:
– Ах, братцы, братцы! какие вы образованные были!
С тех пор мы совсем утеряли из вида семейство Молчалиных и, взамен того, с каждым днем все больше и больше прилеплялись к сыщику, который льстил нам, уверяя, что в настоящее время, в видах политического равновесия, именно только такие люди и требуются, которые умели бы глазами хлопать и губами жевать.
– Именно ж одно это и нужно! – говорил он, – потому, звише так уже сделано есть, что ежели человек необразован – он работать обьязан, а ежели человек образован – он имеет гулять и кушать! Иначе ж руволюция буде!
Вообще этот человек был для нас большим ресурсом. Он был не только единственным звеном, связывавшим нас с миром живых, но к порукой, что мы можем без страха глядеть в глаза будущему, до тех пор, покуда наша жизнь будет протекать у него на глазах.
– Поберегай, братец, нас! поберегай! – по временам напоминал ему Глумов.
– А як же! даже ж сегодня вопрос был: скоро ли руволюция на Литейной имеет быть? Да нет же, говору, мы же всякий вечер з ними в табельку играем!
Так обнадеживал он нас и, в доказательство своей искренности, пускался в откровенности, то есть сквернословил насчет начальства и сознавался, что неоднократно бывал бит при исполнении обязанностей.
– Это ж весьма натурально! – пояснял он, – бо всякий человек защищать себя имеет – от-то и гарцуе як може!
Всего замечательнее, что мы не только не знали имени и фамилии его, но и никакой надобности не видели узнавать. Глумов совершенно случайно прозвал его Кшепшицюльским, и, к удивлению, он сразу начал откликаться на этот зов. Даже познакомились мы с ним как-то необычно. Шел я однажды по двору нашего дома и услышал, как он расспрашивает у дворника: «скоро ли в 4-м нумере (это – моя квартира) руволюция буде». Сейчас же взял его я за шиворот и привел к себе:
– На, смотри!
С тех пор он и остался у нас, только спать уходил в квартал да по утрам играл на бильярде в ресторане Доминика, говоря, что это необходимо в видах внутренней политики.
Лгунище он был баснословный, хотя не забавный. Но так как мы находились уже в том градусе благонамеренности, когда настоящая умственная пища делается противною, то лганье представляло для нас как бы замену ее. В особенности запутанно выходила у него родословная. Нынче он выдавал себя за сына вельможного польского пана, у которого «в тым месте», были несметные маетности; завтра оказывался незаконным сыном легкомысленной польской графини и дипломата, который будто бы написал сочинение «La verite sur la Russie, par un diplomate» («От-то он самый и есть!» – прибавлял Кшепшицюльский). Когда же Глумов, с свойственною ему откровенностью, возражал: «а я так просто думаю, что ты с… с…», то он и этого не отрицал, а только с большею против прежнего торопливостью переносил лганье на другие предметы. Хвастался, что служит в квартале только временно, покуда в сенате решается процесс его по имению; что хотя его и называют сыщиком, но, собственно говоря, должность его дипломатическая, и потому следовало бы называть его «дипломатом такого-то квартала»; уверял, что в 1863 году бегал «до лясу», но что, впрочем, всегда был на стороне правого дела, и что даже предки его постоянно держали на сеймах руку России («як же иначе може то быть!»). Иногда он задумывался и предлагал вопрос:
– А як вы, господа, думаете: бог е?
– Тебе-то, скотина, какое дело?
– Все же ж! Я, например, полагаю, что зовсем яго ниц.
Но даже подобные выходки как-то уж не поражали нас. Конечно, инстинкт все еще подсказывал, что за такие речи следовало бы по-настоящему его поколотить (благо за это я ответственности не полагается), но внутреннего жара уж не было. Того «внутреннего жара», который заставляет человека простирать длани и сокрушать ближнему челюсти во имя дорогих убеждений.
Повторяю: мы совсем упустили из вида, что, по первоначальному плану, состояние «благонамеренности» было предположено для нас только временно, покуда предстояла надобность «годить». Мы уже не «годили», а просто-напросто «превратились». До такой степени «превратились», что думали только о том, на каком мы счету состоим в квартале. И когда однажды наш друг-сыщик объявил, что не дальше как в тот же день утром некто Иван Тимофеич (очевидно, влиятельное в квартале лицо) выразился об нас: я каждый день бога молю, чтоб и все прочие обыватели у меня такие же благонамеренные были! и что весьма легко может случиться, что мы будем приглашены в квартал на чашку чая, – то мы целый день выступали такою гордою поступью, как будто нам на смотру по целковому на водку дали.
И, действительно, очень скоро после этого мы имели случай на практике убедиться, что Кшепшицюльский не обманул нас. Шли мы однажды по улице, и вдруг навстречу сам Иван Тимофеич идет. – Мы было, по врожденному инстинкту, хотели на другую сторону перебежать, но его благородие поманил нас пальцем, благосклонно приглашая не робеть.
– Вечерком… на чашку чая… прошу… в квартал! – сказал он, подавая нам по очереди те самые два пальца, которыми только что перед тем инспектировал в ближайшей помойной яме.
И, сказав это, изволил благополучно проследовать к следующей помойной яме.
Возвратясь домой, мы долго и тревожно беседовали об этой чашке чая. С одной стороны, приглашение делало нам честь, как выражение лестного к нам доверия; с другой стороны – оно налагало на нас и обязанности. Множество вопросов предстояло разрешить. В каком костюме идти: во фраке, в сюртуке или в халате? Что заставят нас делать: плясать русскую, петь «Вниз по матушке по Волге», вести разговоры о бессмертии души с точки зрения управы благочиния, или же просто поставят штоф водки и скажут: пейте, благонамеренные люди! Разумеется, наш сыщик оказался в этом случае драгоценной для нас находкою.
– Вудка буде непременно, – сказал он нам, – може и не така гарна, как в тым месте, где моя родина есть, но все же буде. Петь вас, може, и не заставят, но мысли, наверное, испытывать будут и для того философический разговор заведут. А после, може, и танцевать прикажут, бо у Ивана Тимофеича дочка есть… от-то слична девица!
Наконец настал вечер, и мы отправились. Я помню, на мне были белые перчатки, но почему-то мне показалось, что на рауте в квартале нельзя быть иначе, как в перчатках мытых и непременно с дырой: я так и сделал. С своей стороны, Глумов хотя тоже решил быть во фраке, но своего фрака не надел, а поехал в частный ломбард и там, по знакомству, выпросил один из заложенных фраков, самый старенький.
– По этикету-то ихнему следовало бы в ворованном фраке ехать, – сказал он мне, – но так как мы с тобой до воровства еще не дошли (это предполагалось впоследствии, как окончательный шаг для увенчания здания), то на первый раз не взыщут, что и в ломбардной одеже пришли!
Иван Тимофеич принял нас совершенно по-дружески и, прежде всего, был польщен тем, что мы, приветствуя его, назвали вашим благородием. Он сейчас же провел нас в гостиную, где сидели его жена, дочь и несколько полицейских дам, около которых усердно лебезила полицейская молодежь (впоследствии я узнал, что это были местные «червонные валеты», выпущенные из чижовки на случай танцев).
– Папаша вами очень доволен! – бойко приветствовала нас дочь хозяина и, обращаясь ко мне, прибавила: – Смотрите! я с вами первую кадриль хочу танцевать!
– Ежели, впрочем, не воспрепятствует пожар! – любезно оговорился хозяин.
По выполнении церемонии представления мы удалились в кабинет, где нам немедленно вручили по стакану чая, наполовину разбавленного кизляркой (в человеке, разносившем подносы с чаем, мы с удовольствием узнали Кшепшищольского). Гостей было достаточно. Почетные: письмоводитель Прудентов и брантмейстер Молодкин – сидели на диване, а младшие – на стульях. В числе младших гостей находился и старший городовой Дергунов с тесаком через плечо.
Оказалось, что Кшепшицюльский и тут не обманул нас. Едва мы успели усесться, как Прудентов и Молодкин (конечно, по поручению Ивана Тимофеича), в видах испытания нашего образа мыслей, завели философический разговор. Начали с вопроса о бессмертии души и очень ловко дали беседе такую форму, как будто она возымела начало еще до нашего прихода, а мы только случайно сделались ее участниками. Прудентов утверждал, что подлинно душа человеческая бессмертна, Молодкин же ему оппонировал, но, очевидно, только для формы, потому что доказательства представлял самые легкомысленные.
– Никакой я души не видал, – говорил он, – а чего не видал, того не знаю!
– А я хоть и не видал, но знаю, – упорствовал Прудентов, – не в том штука, чтобы видючи знать – это всякий может, – а в том, чтобы и невидимое за видимое твердо содержать! Вы, господа, каких об этом предмете мнений придерживаетесь? – очень ловко обратился он к нам.
Момент был критический, и, признаюсь, я сробел. Я столько времени вращался исключительно в сфере съестных припасов, что самое понятие о душе сделалось совершенно для меня чуждым. Я начал мысленно перебирать: душа… бессмертие… что, бишь, такое было? – но, увы! ничего припомнить не мог, кроме одного: да, было что-то… где-то там… К счастию, Глумов кой-что еще помнил и потому поспешил ко мне на выручку.
– Для того, чтобы решить этот вопрос совершенно правильно, – сказал он, – необходимо прежде всего обратиться к источникам. А именно: ежели имеется в виду статья закона или хотя начальственное предписание, коими разрешается считать душу бессмертною, то, всеконечно, сообразно с сим надлежит и поступать; но ежели ни в законах, ни в предписаниях прямых в этом смысле указаний не имеется, то, по моему мнению, необходимо ожидать дальнейших по сему предмету распоряжений.
Ответ был дипломатический. Ничего не разрешая по существу, Глумов очень хитро устранял расставленную ловушку и самих поимщиков ставил в конфузное положение. – Обратитесь к источникам! – говорил он им, – и буде найдете в них указания, то требуйте точного по оным выполнения! В противном же случае остерегитесь сами и не вдавайтесь в разыскания, кои впоследствии могут быть признаны несвоевременными!
Как бы то ни было, но находчивость Глумова всех привела в восхищение. Сами поимщики добродушно ей аплодировали, а Иван Тимофеич был до того доволен, что благосклонно потрепал Глумова по плечу и сказал:
– Ловко, брат!
– Ну-с, прекрасцо-с! – продолжал дальше испытывать Прудентов, – а теперь я желал бы знать ваше мнение еще по одному предмету: какую из двух ныне действующих систем образования вы считаете для юношества наиболее полезною и с обстоятельствами настоящего времени сходственною?
– То есть классическую или реальную? – пояснил от себя Молодкин.
Я опять оторопел, но Глумов нашелся и тут.
– Откровенно признаюсь вам, господа, – сказал он, – что я даже не понимаю вашего вопроса. Никаких я двух систем образования не знаю, & знаю только одну. И эта одна система может быть выражена в следующих немногих словах: не обременяя юношей излишними знаниями, всемерно внушать им, что назначение обывателей в том состоит, чтобы беспрекословно и со всею готовностью выполнять начальственные предписания! Ежели предписания сии будут классические, то и исполнение должно быть классическое, а если предписания будут реальные, то и исполнение должно быть реальное. Вот и все. Затем никаких других систем, ни классических, ни реальных – я не признаю!
– Браво! браво! – посыпались со всех сторон поздравления. Квартальный хлопал в ладоши. Прудентов жал нам руки, а городовой пришел в такой восторг, что подбежал к Глумову и просил быть восприемником его новорожденного сына.
Таким образом, благодаря находчивости Глумова, мы вышли из испытания победителями и посрамили самих поимщиков. Сейчас же поставили на стол штоф водки, и хозяин провозгласил наше здоровье, сказав:
– Теперича, если бы сам господин частный пристав спросил у меня: Иван Тимофеев! какие в здешнем квартале имеются обыватели, на которых, в случае чего, положиться было бы можно? – я бы его высокородию, как перед богом на Страшном суде, ответил: вот они!
После того мы вновь перешли в гостиную, и раут пошел обычным чередом, как и в прочих кварталах. Червонным валетам дали по крымскому яблоку и посулили по куску колбасы, если по окончании раута окажется, что у всех гостей носовые платки целы. Затем, по просьбе дам, брантмейстер сел за фортепьяно и пропел «Коль славен», а в заключение, предварительно раскачавшись всем корпусом, перешел в allegro и не своим голосом гаркнул:
Вот в воинственном азарте
Воевода Пальмерстон
Разделяет Русь на карте
Указательным перстом!
– Прекрасный романс! – сказал Глумов, – века пройдут, а он не устареет!
– Хорош-то хорош, а по-моему, наше простое, русское ура – куда лучше! – отозвался хозяин, – уж так я эту музыку люблю, так люблю, что слаще ее, кажется, и на свете-то нет!









