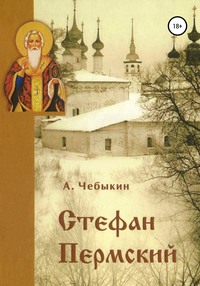Полная версия
Русь моя неоглядная
Застыдились. Похватали ведра и разошлись. Екатерина пришла домой обессиленная. Думала: «Я без мужика три года, чуть постарше их, но выстояла. Коротка, видно, их любовь, а если вдруг кто из мужиков вернется, как бесстыжие глаза смотреть тогда будут. Что скажут им. Слава богу, вытерпела я, выревела. Господи, скажи, почему одна женщина может быть сильной, а другая слабой. С утра до ночи на колхозном поле, своя работа по дому. Адский труд на току, в лесу, за плугом. Через силу, но делаем, а естеством управлять не можем. Господи, прости меня, не виноваты они, ты их создал такими, чтобы продолжать род человеческий через страсть, стремлением к противоположному полу». Долго стояла Катерина, прислонившись к дверному косяку. Тима из окна видел потасовку и от позора спрятался за печку… Катерина спросила: «Ну что, поганец, нашкодил. Я догадывалась, но не думала, что так далеко зайдет. Ты как кобель плешивый бегал до обеих. Запомни, – это пакость и распутство. Отец твой выбирал меня одну единственную, и я выбирала его не на день, а на век. Жив или мертв, но ждать буду, пока не состарюсь. И ты будь таким. Собирайся, завтра пойдешь в район. Есть повестка отправить одного парня в ремесленное училище.
Завтра чтобы духу твоего не было. Пореву да успокоюсь. Лучше разлука, чем позор. Стыд за тебя на всю округу. Ну, хоть бы к одной бегал, а то сопля такая, от горшка два вершка и туда же. Отец твой в 23 года, после армии, женился. Нецелован был. После свадьбы чмокались как телята. Смех один. Будь проклята эта война. Тысячам людей судьбы сломала. Человек человека убивает, разве для этого творил нас Создатель, чтобы мы зверели, становились скотиной бездушной».
Рано утром, до восхода солнца, Тима ушел в район. После окончания училища работал на металлургическом заводе. Приезжал домой. В зимние школьные каникулы забирал в город Дашу и сынишку Никиту.
Весна 1945 года. Война приближалась к концу. Дед Ермолай быстро старился. Бороденка повылезла, остался короткий реденький клочок. Деревенские женщины от невыносимого труда и горя сносились, которые помоложе, крепились, но от солнца и мороза лица задубели, покрылись морщинами. Девчата подрастали, становились невестами. Выскакивали замуж в соседние деревни, в село, на станцию. Парни не хотели оставаться в глухой далекой деревне. Окончив курсы трактористов, комбайнеров, шоферов, оставались на центральной усадьбе колхоза. Старушки и солдатки по-прежнему вечерами собирались под липой, у родника, и пели старинные протяжные песни, только звуки песен глохли в глухомани леса. Маленькие деревушки вокруг Звонарей вымирали, некому было слушать певучее многоголосье жителей Звонарей.
Шел май 1945 года. Ярко, густо, широко зацветала черемуха. Ее кипень захлестывала косогор и белой лентой тянулась к горизонту вниз по реке. Семеро старух-матерей и семеро солдаток ждали конца войны и надеялись, а вдруг там ошиблись и ее сынок или суженый живой. Может где-то в госпитале без памяти контуженный или без рук и письма написать не может. По утрам деревенские цепочкой поднимались на вершину косогора и долго глядели вдаль, не идет ли их родненький. Наплакавшись, расходились по домам, хозяйство не бросишь, надо трудиться, хоть невмоготу, но надо.
Катерина по вечерам долго слушала приемник, а утром передавала новости: «Дорогие мои подруженьки, отлились наши слезы супостату. Столицу их фашистскую, Берлин, наши штурмуют. Гитлера обязательно поймают осудят и по странам в клетке возить будут, и показывать народу нелюдя».
В ночь на 9 мая Катерина поймала какую-то волну, где говорили на незнакомом языке, но прорывались русские слова «Победа! Победа!».
Рано утром побежала по домам, стуча в окошки сообщала: «Родные мои, войне конец!».
В избе у Катерины приткнуться негде, старые и малые, прижавшись друг к другу, стоят и слушают радио. В десять утра знакомый голос диктора объявил: «Внимание! Внимание! Говорят все радиостанции Советского Союза. Сегодня ночью гитлеровская Германия капитулировала, фашизм неизвержен». Дальше слов никто не слушал. Одновременно зашумели: «Наконец-то… Наши победили… Гитлеру конец… Сынки наши вернутся…».
Женщины знали, что возвращаться некому, но были рады, что сыны и внучата не пойдут на войну, будут целы, досмотрят их. Поднимут разрушенное войной хозяйство.
Кто-то крикнул: «Война кончилась, что стоим! Мужики домой вернутся». Повыскакивали из избы и, обгоняя друг друга, выбежали на косогор. Встали в кружок – кругом ни души. Постояли, постояли, обнялись и завыли: «Да где вы наши родненькие, да не видать вас нам более, отлетали наши соколы, да сложили вы свои головушки в чужом краю».
Находясь в трансе, продолжали причитать.
Кто-то из малышей позвал: «Смотрите, кто-то идет». Действительно от дальнего леса, минуя дорогу, по тропинке, двигался человек. Люди занемели, оцепенели. Путник приближался, отмахивая костылем в левой руке – загалдели разом: «Да это Катеринин Иван» и бросились к нему. Тискали, обнимали. В этих объятиях воплотилась боль и радость военных лет. Катерина шептала: «Пропустите меня к моему суженому, родненькому». Деревенские расступились, Катерина упала перед Иваном на колени, обхватила ноги, прижалась и говорила, говорила: «Родненький мой, ненаглядный мой, заждались мы тебя с детьми. Каждое утро молилась за тебя, и в поле, и перед сном. Ни на минуту ты не выходил из моего сердца. Чиста и светла перед тобой, Иванушка. Дом ждет тебя. Матушка дома, прихворала, а батюшка на лесозаготовках. Передавал, что скоро отпустят». Девчата и парни стояли в стороне. Иван спросил: «А где тут мои?».
Когда уходил на войну, старшему было тринадцать, остальные четверо родились перед войной год за годом.
– Сын где?
– На заводе, ремесленное окончил.
– А Ташошка, старшая, неужели забыла отца? Пять годиков было, когда уходил.
Катерина охнула: «Господи! Дети, это ваш папочка!» Малышня бросилась к отцу. Танюшка охватила отца за шею. Она каждый день рассказывала младшим братьям и сестрам, какой у них папочка сильный и здоровый и как он бьет немцев. Дети жались к груди, к поясу, а самая младшая охватила колени отца. Нога у Ивана подкосилась, и он по костылю сполз на землю. Солдатки подхватили Ивана и понесли к дому. Иван вырывался, просил: «Бабоньки, отпустите меня, тихонько сам дойду». Они в ответ: «Иван, в радость это нам, как будто к своим прикасаемся. Знаем, что не видать нам их более».
Поравнялись с липой.
Иван попросил: «Давайте сядем и песней помянем наших деревенских, не вернувшихся с войны, которые никогда не споют с нами. Пусть души их побудут на нашей заветной лавочке».
Катерина завела: «Кто-то с горочки спустился, наверно милый мой идет…».
Перепели любимые песни и закончили печалью России: «Летят утки, а за ними два гуся, ох, кого люблю, кого люблю. Ох, не дождуся…»
Кузнец Егор
«Егор от Егоровых», – шутили мужики. Деревенька Егоровы – в пять домов. Егор – мужик среднего роста, жилистый, конопатый, проваливаясь деревянной ногой, которую потерял на Германской, в раскисшую дорогу, опираясь на железную пудовую трость, шел на работу в кузницу вдоль ручья, выбегавшего из его огорода. Единственная нога за тридцать лет работы кузнецом стала подводить – часто подкашивается. Егор не особо на это обращал внимание. Надо было спешить в кузницу и до зари разогреть горн. Посевная – люди ждут. К полудню успевал управиться, но после обеда снова подтаскивали поломанные лемеха, разорванные цепи, вплоть до лопнутых коленвалов. Помощники редко выдерживали более недели этот адский труд: весь день махать большим молотом. Егор был мастер на все руки: и окна стеклил, и рамы делал, и на серпах насечку, даже напильники умудрялся изготовлять. Привозили детали и целые узлы из МТС, чтобы Егор проковал или сковал заново. Бабы в военное лихолетье тащили лопнувшие топоры, лопаты, косы. Денег не брал, если совали, то обижался. Делал все за спасибо и ласковое слово. Только за новые рамы брал половинную цену. Бабы любили наблюдать, как работает Егор. Белая рубаха надувалась на спине парусом, волосы взлетали вверх с каждым ударом и рассыпались за ушами, искры летели из-под молота. Белый кусок железа постепенно краснел, приобретая очертанья, которые хотел он. В минуты отдыха бабы жались к нему. Егор жалел их, молодых и красивых, полных сил вдовушек и дарил им свою доброту и ласку на лежаке в пристройке, где у него было выскоблено и вымыто. Бабоньки потом неделю носились на крыльях, радуясь новому серпу или наваренному топору, а также тем минутам наслаждения, страсти и забвения. Пока дети были малы, жене было тягостно управляться по дому и в колхозе, но дочери подросли, и стало полегче. Жена понимала, как нужно Егорово ремесло всем.
Егор радовался и душой, и телом своей работе. Старался хоть чем-то помочь людям в тяжкие годы войны. Утром и вечером слышались его песни над речкой; все знали, что это идет Егор на работу или с работы. Дорожку, протоптанную по лугу, так и назвали «Егоровой тропой».
Кончилась война. Егор торжествовал: вот придут мужики с фронта, и он кого-нибудь научит своему мастерству, а сам станет столярничать. Руки еще держали молот, но единственная нога стала отказывать. В июле вернулся из армии племянник Тимофей в чине младшего лейтенанта с двумя огромными трофейными чемоданами, наполненными отрезами и костюмами, как будто и не воевал. Краснощекий, гладкий, ни ранения, ни контузии. Рассказывал, что служил офицером связи при штабе корпуса. Определили Тимофея к Егору в помощники, но помощник из него получился никудышний. Стал попивать и бегать по солдаткам, иногда по два-три дня не появлялся. Егор жаловаться не хотел, все-таки племянник, но страшно стал расстраиваться, что некому передать свое дело. Песни над рекой уже никто не слышал. Егор возвращался поздно и подолгу лежал на деревянной кровати, уставившись взглядом в какой-нибудь сучок на потолке. Жена вся испереживалась. Горевала вместе с ним.
Осенью снег выпал рано, и уже в ноябре стояли жуткие морозы. От кузни до Сахаров была торная тропинка, по ней бегали дети в школу, а от Сахаров до дома ее замело. В этот раз домой возвращался расстроенный – древесный уголь был неудачный, плохо давал жар, ковка не шла. На спуске нога подвертывалась, раза два падал. Тропинка пересекала старую колесную дорогу. Деревянная нога провалилась в промоину, а живая не успела отреагировать и хрустнула в бедре. Егор упал на бок, пробовал встать, не смог. Пополз. Шагов за двести до дома попал в незамерзший ручей. Намок. Выполз. Одежда быстро заледенела. Из последних сил полз к дому. Жена несколько раз выбегала на крыльцо, приглядывалась, но была темень. Егор подполз к калитке в огороде, до сеней оставалось с десяток шагов, но открыть калитку не было сил, и крикнуть не мог.
Пес услышал шорох, выбежал из-под клети, заскулил, через редкие штакетники стал лизать нос, щеки, пробовал ухватить за плечо куртки, но мерзлая одежда выскальзывала. Глаза Егора все видели. На лай Дружка выбежала жена, побежала в деревню за подмогой, затащили на печь, оттаивали и раздевали. Утро выдалось погожее, солнечное. Через проталины в окне пробивались солнечные зайчики.
Последний взгляд уловил яркое пятно на том сучке в потолке, который он любил рассматривать с детства, похожем на парящую птицу.
1999, ноябрьПочтальон Степан
Деревня Дрозды большая – тридцать домов, но мужики жили бедно, земли было мало. В Гражданскую – все за красных, Степан на Германскую не попал – один сын у одинокой матери, Но в Гражданскую прослышал про Чапаева, пробрался к нему. Быстро научился владеть саблей, конем он управлял не хуже настоящего казака. Где-то под Уфой при атаке лавой близко разорвался снаряд. Его ударило справа мерзлыми комьями земли и мелкими осколками и вышибло из седла. Сгоряча он соскочил, схватил за узду мчавшуюся мимо лошадь без седока. Сабля болталась на ремешке в плохо слушавшейся руке. Перехватил саблю в левую руку, схватился в сече с налетевшим на него казаком, но удары левой не получались, он больше защищался, прикрывая голову правой рукой. Он скорее увидел, чем почувствовал, как правая рука отлетела в сторону. Он упал на облучок. Конь вынес его из боя. Кто-то перетянул обрубок руки ремнем, кровь перестала хлестать. В лазарете рука зажила быстро, но правый глаз вытек, из костей черепа долго вытаскивали осколки. Комиссовали подчистую. Куда без руки? Домой… Но дома надо ходить за плугом, держать в руках косу. Решил искать свою часть. Под Перекопом нашел бывшего командира эскадрона, который командовал полком. Взял к себе в ординарцы.
Левой рукой научился делать все: себя обслуживать, писать, орудовать топором, но головные боли не давали покоя по ночам. Видя, как мучается Степан, командир предложил перейти в ездовые на кухню. Согласился. Главное – при друзьях и лошади. Раскочегарив полевую кухню, он прижимался головой к горячему котлу, и боль проходила.
В 1926 году командир поехал на курсы усовершенствования в Москву. Часть вернулась из Средней Азии, где гонялись за басмачами, на постоянное место дислокации. Степана демобилизовали. Вернулся к матери. На службе скопил немного денег. Купили лошадь и корову. Подрубил старый дом, перекрыл крышу. Женился. Жена попалась работящая, добрая, ласковая, любящая. Степана оберегала, особенно в те дни, когда его мучили головные боли. Степан платил взаимностью. Жили справно и ладно.
В годы коллективизации – всей деревней в колхоз. Степана определили в почтальоны. Степан с рассветом садился верхом на лошадь, перекидывал огромную кожаную сумку через плечо и ехал на почту в село Григорьевское. За день объезжал все десять деревень – по периметру около тридцати километров. К вечеру подъезжал к правлению, рассказывал председателю все новости, где и как идет работа, какие всходы, как идет уборка. Посыльный отводил лошадь на конный двор, Степан – домой, и так каждый день. Грянула война. Сначала шли победные фанфары, хотя немец был уже под Смоленском. Молодежь из деревень добровольцами отправлялась в военкомат в Нытву. Пришел сентябрь. Немец рвался к Москве. Степан еле успевал развозить повестки из военкомата. К октябрьским праздникам деревни оголились, оставались одни бабы, подростки и старики. В конце ноября стали приходить похоронки. Степан совсем растерялся: как их вручать. Степан старался заехать в каждый двор, передать какую-нибудь весточку. Подъезжая, стучал кнутовищем по окну и кричал: «Наши немцу под Москвой жару дают!». Если было письмо, то заходил в дом, читали вслух, потом содержание письма пересказывал другим. О плохом умалчивал (оно и так тошно – кругом горе), а хорошее передавал из деревни в деревню. Самое страшное – это вручение похоронок. Степан заходил в дом, рассказывал новости, расспрашивал о житье-бытье, а рука, державшая похоронку в сумке, наливалась чугуном. При взгляде на малышню у Степана из единственного глаза падали слезинки одна за другой. Только с пятого-шестого раза бабы говорили: «Не мучь ты нас, знаем, что беда, догадываемся, уже все слезы выплакали, давай похоронку, надо идти в сельсовет, чтобы налоги сняли и пособие на детей дали». Степана в плохом никто не мог упрекнуть. В непогоду доводилось и переночевать у вдовушек, но все знали, что Степан верен своей Марии. «Святая пара», – говорили люди. Подросла дочь, окончила техникум. Вышла замуж. Осталась в городе. На лете привозила внука. Кончилась война. Все ждали возвращения воинов. Но похоронки шли.
«Ваш муж погиб смертью храбрых в 1944 году в партизанском отряде». «Ваш сын погиб при штурме Берлина». «Ваш отец пал смертью храбрых при освобождении Праги». «Ваш… смертью храбрых в борьбе с японскими милитаристами». Степан горе вбирал в себя. Стал задумчив, малоразговорчив. А тут своя беда: через год после войны скоропостижно скончалась жена. Степан затосковал. Сердце его не выдержало всего людского и своего горя, 9 мая 1946 года вечером Серко привез Степана к правлению неживого.
1999, ноябрьКокшаровские старики
Деревенька всего двенадцать домов. До войны все колхозники. Три брата Фоминых – старики-погодки – основная рабочая сила в деревне. От дедов веяло упорством и силой.
Дед Филипп
Старший из братьев, крупный, кряжистый, краснобородый, со стальным взглядом, обихоженный, всегда в голубой рубахе, дед Филипп конюшил. Кокшаровские кони считались лучшими в колхозе. Упитанны, выхолены. В конюшнях всегда свежая подстилка. Двор подметен. Сбруя исправна. Подогнана к каждой лошади. На конном дворе, в доме и в огороде – порядок и благоуханье. Его все побаивались, как взрослые, так и подростки. Не дай бог, если он увидит натертость от хомута или чересседельника. Молчаливый дед упрется глазами и что-то забормочет. Иногда и взрывался, крыл почем зря, но в бога и мать – никогда. Стоит виновник ни жив, ни мертв. Но дед быстро отходит: помогает распрячь лошадь, раны смазывает мазью, исправляет огрехи сбруи. Если зимой охота поиграть в прятки на сеновале, пацаны посылают меня упрашивать деда Филю. Я с опаской спрашивал разрешения. Дед говорил: «А, это ты, Шура – Татьянин сын, играйте, но только по клеверу не топчитесь, шишку отобьете, и чтобы после себя порядок оставили».
Строгость его была справедлива – ради дела. Позже его племянница Федосья рассказывала, что дедушка Филипп был очень ласковый ко всей родне и всегда старался чем-нибудь помочь их семье, когда они, мал-мала меньше, остались сиротами (отец Калина погиб в 1942 году под Сталинградом, а матушка скончалась на лесозаготовках).
Дед Никифор – младший из братьев. Седоват, светло-карие глаза всегда задумчивы, бородка клинышком, сутулится. Любит поговорить. Любое дело в его руках ладится. В народе о нем говорят: «Маленько умеет». Ни одна свадьба в округе не обходится без него. Если видит, дело тянет на ссору, подходит, кладет руки на спорщиков, посмотрит то на одного, то на другого. Мужики тут же лобызаются. Ссоры как будто и не было. Если дорогу завалят для выкупа, тогда Никифор соскакивает с возка, зычно зовет: «Эй, охальники, ну-ка быстро разберем эту завалушку и пивко изопьем». Прятавшиеся парни и мужики выходят и с прибаутками разбирают завал. Он подносит пенистое пиво, шутит. Мужики кричат: «Дорогу молодым, хорошей свадьбы и долгой жизни». Чуть прихворнули дети, мама посылает за Никифором. Дед был легок на подъем. Через полчаса был в нашем доме. Осматривал дитя, если было не по его части, то говорил: «Молодушка, тут я ничем помочь не могу, неси ребенка в больницу». Или гладил по головке, наливал в кружку теплой воды, шептал, крестил, набирал в рот воды и слегка брызгал на лицо, голову. Дите после его процедур иногда спало сутки. Никифор знал тысячи наговоров и нашептываний, но если кто-то приходил к нему с недобрым, тогда он еще в дверях посетителю советовал: «С нехорошим пришла, это не ко мне». Как говорили в деревне: «Никифор делает только доброе». Деда уважали, ценили, берегли все: от мала до велика. Славный был старик Никифор.
Онисим
Третий из братьев, Онисим, был самый шустрый, верткий. Ни минуты не мог стоять свободно. Руки его все время требовали работы. Моложавое лицо, сероглазый, бородка коротко подстрижена. Зимой в аккуратных ладных валенках, всегда в красной рубахе, расстегнутом полушубке, шапке, сдвинутой на затылок. Летом любил ходить босиком. В разговоре сыпал шутками и поговорками. Трудяга. В свои 60 лет успел повоевать на русско-японской и германской войнах. Жена его жаловалась: «Как живет, не знаю, все тело изранено, шрам на шраме». Воевал Онисим отчаянно. Кресты, медали в железной баночке из-под чая хранились на божничке. Онисим разрешал нам, подросткам, посмотреть, но сам никогда не одевал: ни в праздники, ни в будни. Смеялся: «А, железки, жив остался – это главное, и на этом спасибо». Он располагал к себе, мы зачастую крутились около него, слушая его побасенки. Приезжая в нашу деревню, он издалека махал картузом и кричал: «Шура, здравствуй, мать опять голову сметаной намазала?» Убел-белые волосы, как шапка снега, мотались на голове. Я отвечал: «Здравствуйте, дедушка Онисим!». А самому было стыдно, почему не я, а он здоровается первый. Бегал в первый и второй классы за семь километров на станцию Григорьевскую. В шесть утра, закутанный до глаз, выходил из дома. За ночь дорогу заметало, приходилось следить тропинку. В войну расплодились волки. Стаями гонялись за зайцами, лисами и собаками. Было страшно. Каждая веточка вдоль дороги казалась волком. Вопил, что есть силы, думая, что волки испугаются. Кокшаровских ребят в школу возил дед Онисим. Набьет полную кошеву, сам на облучке, катит, напевая. Если увидит меня, стоит, ждет. Кричит: «Шура, поторопись, ждем». Если догонял, то подсаживал на запятки кошевки.
За его бескорыстие, внимание и ласку я любил этого старика и радовался, когда его видел. В последнюю зиму войны Онисим поехал в город с продажей. В колхозе зерно на трудодни давали только в посевную и уборочную. В остальное время сельчане ездили за хлебом в город, меняя литры молока на пайки хлеба. Онисим наменял полную котомку. Бидоны в руки, котомку за спину – и в вагон, но на этот раз пробиться не мог, застрял на краю тамбура. Дачный поезд ходил раз в сутки. Ночью уходил и ночью приходил. Пилял от Перми до Григорьевской три часа. Зимой темнеет рано. Проехали остановки три. Онксим почувствовал, что котомка перестала его тянуть назад. Ухватился за лямки, потянул – котомки нет, лямки перерезаны. Деда опалило жаром: дома старухи и малые внуки сидят без хлеба. Никто никуда не уходил, в тамбуре стояли плотно. Развернулся, стал требовать у парней, которые стояли за спиной, вернуть котомку. Дед увидел, что его мешок передают вглубь тамбура. Онисим изловчился, стал коленками бить меж ног и выхватывать мешок. Парни гоготали и хватали его за рукава солдатской фуфайки. Стянули с него фуфайку и стали подталкивать Онисима к краю площадки. Дед понял, что это беда. Схватил одного за пояс, нагнулся и через себя выбросил из вагона в сугроб. На него навалились всей ватагой. Схватил второго, но, не успев приподнять, почувствовал страшную боль под лопаткой. Заточка прошла насквозь и вышла ниже соска. Онисим вместе с убийцей вывалился из вагона под насыпь. Утром обходчик увидел яркое красное пятно на склоне железнодорожного полотна. Спустился. Ощупал окоченевшее тело и увидел на алой рубахе со стороны спины и груди ледышки бурой крови. Хоронили Онисима в его алой рубахе, подарке невесты к свадьбе. Собрались млад и стар проводить Онисима в последний путь. Цепочка провожающих вытянулась до соседней деревни.
1999, декабрьВороний глаз
В глухих еловых лесах Прикамья растет цветок Вороний глаз. Говорят, цветет белой звездочкой, но цвет редко кто видел. Но одинокий ярко-черный плод на ярко-зеленом чашелистике виден издалека. В народе прозвали эту ягоду «Вороний глаз». В деревне было поверье, что это чертов глаз. Знахарки использовали его как приворотное зелье. Скот его обходил. Лошади и коровы фыркали и пятились, только козы обнюхивали, а затем отскакивали, как ужаленные. Взрослые предупреждали детей, чтобы к цветку-ягоде не подходили и в руки не брали – это дурман ядовитый.
Иван, сорокалетний мужик, длинноногий, большеголовый, с кудрями русых волос, в розовой косоворотке, прощался на росстани с односельчанами, вытирая слезинки рукавом рубахи. Рядом с ним с вещевым мешком через плечо стоял двухметровый парень с челкой белесых волос, тоскливо улыбающийся, крестник Степан. Степан тормошил Ивана: «Крестный, пойдем, мужики из соседней деревни ждут, с подводы машут».
Шло лето 1942 года. Немцы рвались к Сталинграду. Ивана как тракториста в первый год войны не брали, а тут повестка, он сообщил в город крестнику, который после окончания техникума работал мастером на оборонном Мотовилихинском заводе. На последнем курсе техникума женился; в жены взял фельшерицу из соседней деревни, ладную, статную, голубоглазую красавицу Надю Ложкину. У них росли две девчушки-погодки: Люба и Вера. Когда Степан узнал, что крестному пришла повестка, он побежал в заводоуправление, но там сказали, что на него бронь. Два дня бегал то в военкомат, то в заводоуправление, пока не добился, чтобы сняли бронь.
Два сына Ивана в прошлом году были взяты в ФЗО, учились при шахте в городе Кызеле. Две деревушки, Поварешки и Ложки, разделяла речонка Дубровка. В Поварешках – все Поварешкины, а в Ложках – все Ложкины.
За долгую жизнь жители деревень перероднились: переженились, перекумовались. Все братаны, тетки, крестные, крестники, кумовья, сватовья. Но деревни находились в разных районах, граница – речка Дубровка. На игрищах, на свадьбах, на проводах все вместе. Как сойдутся деревенские парни, так и незлобно дразнятся: «Эй, вы Поварешки-мутовки…, эй, вы Ложки-квашенки», и в таком духе. Жена Ивану попалась сварливая, ленивая, почти двадцать лет промучился. Вроде женился по любви, в девках была ласковая, приветливая. Через месяц после свадьбы пошли недомолвки.
С утра Ивану команды: «Сходи за водой, напои скотину, дров в избу принеси, помои вынеси». Сама в кровати вылеживается, жалится, что плохо спала ночью. Дальше – больше. Иван с работы – ему команда: «Капусту полей, в баню воду наноси». Сидит на лавке пухнет, широкая стала, в двери боком еле проходит. Ивана понукает, ребят гоняет. Иван, управившись по дому, стал уходить к крестнику. Степана растили дед с бабкой. Родители уехали на стройки пятилетки, там и остались. Иван управлялся с хозяйством у себя и помогал Степану. У деда с бабой был покой и ласка.