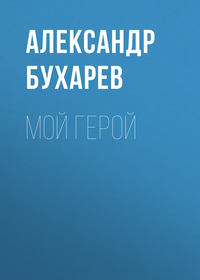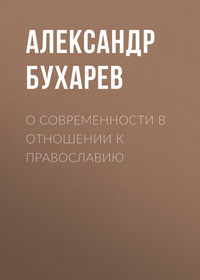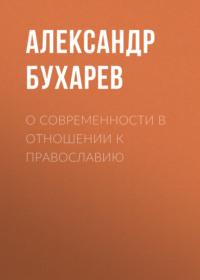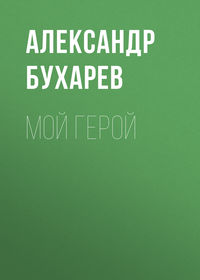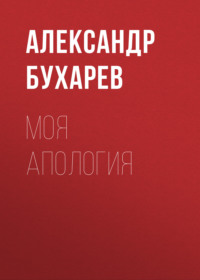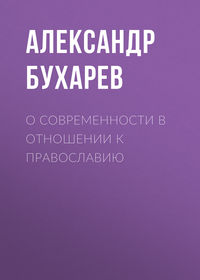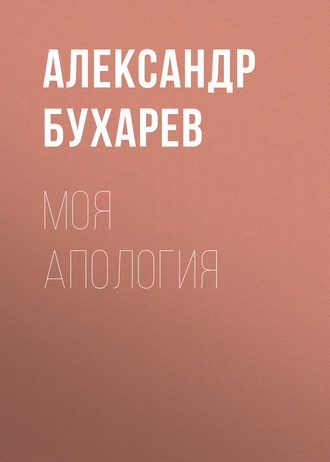 полная версия
полная версияМоя апология
Коснусь, хотя некоторых, и частностей в отзыве г. Зайцева о моей книге. Они тоже характеристичны и замечательны, особенно по вопросу о русской жизни и мысли.
Так, г. Зайцев издевается как над юродством, между прочим, над моими рассуждениями о самодержавии в России, подкрепляемыми убеждением не слишком или не всегда сочувственного нам, но, кажется, проницательного политического ума (Наполеона III) относительно «необходимости, чтобы императорская власть в России сосредоточивала как можно более в руках одного лица все силы государства» (с. 176 и след.), – также и над моими разговорами по крестьянскому вопросу, устраняющими нравственные поводы ко взаимным недоразумениям и недовольству между крестьянами и помещиками. – Это чем пахнет? Или откуда этот ветер дует и что хочет разнести или развеять из России?! – Это донос или изветец, скажете вы? – Не беспокойтесь – отвечаю на возможность подобного запроса с чьей-либо стороны. От меня только идет один донос к вам же самим, гг. резонеры, считающие юродством слова и приемы простого здравомыслия, – донос на ваше легкое и двусмысленное отношение к делу истины и жизни; другого доноса нет с моей стороны. Издевку лично надо мною или моими рассуждениями странно было бы и несправедливо смешивать с оскорблением самого предмета этих рассуждений. Кроме того, и я также не люблю и считаю не полезным, а вредным благу общественному тот ложный, выветрившийся, подобно мякине, патриотизм, который лицемерно поставляет на вид только одну, и то жесткую, обязательность и пугающий вид власти или льстиво и нечеловеколюбиво провозглашает помещиков «отцами и благодетелями» за то, что они мужика били, и <тому> подоб<ное>. Вы сделали не более, как отнесли, видно, мои рассуждения и разговоры к подобной выветрившейся мякине, которую и хотели бы развеять от нас по чисту полю. Не так ли? Но вы бы, г. Зайцев, вместо беструдной, конечно, насмешки над попавшейся вам на глаза моею фразой: «В поре зрелого возраста», – хотя бы немножко потрудились вникнуть в самые мои мысли о власти и о крестьянском деле. Вы увидели бы, что в освобождении крестьян от крепостной зависимости я вижу и в книге своей, с разъяснением дела, указываю – освобождение и самих помещиков от кабального в разных отношениях положения столь многих из них, именно: от той пустоты, праздности, легкомыслия, жестокости, усыпления всех сил, и проч. и проч., к чему давались поводы и средства преизбытками, ничего не стоящими, и ничего же не стоящими всяческими помыканиями людьми (с. 295). Вы нашли бы (и, с какими бы ни было вашими воззрениями, могли бы оценить это, по крайней мере, со стороны дела, вами дорожимой), что в самодержавии я признаю и в своей книге раскрываю небесный дар, данный нам, русским, по собственной нашей восприимчивости, которую всею историею нашею или самою жизнию мы сами разрабатывали в себе, – дар, священнообязательный для нас всех – и властей и подвластных; это – такой именно дар, в котором открыт и предоставляется нам, но нами, при взаимодействии подвластных и властей, должен быть и воспринят и в нас действовать, – дух Господнего вседержания, правящего нами и всем миром не просто по всемощному Его всевластию, но именно на основании и в направлении бесконечного Его человеколюбия и самопожертвования за нас, за самые даже мятежничества нашей греховности (хотя и без потачки этим последним), с бесконечным доверием нам благодати, но под условием всецелого нашего тому соответствия. Чрез такой образ воззрений – не правда ли? – именно, как пустая мякина, развеваются и непременно рассеиваются по чисту полю те ложные патриотические внушения и заботы, на которые выше указано, равно как своенравные притязания и стремления мечтаний, противных нашей истории и народному духу. Или «Русскому слову», может быть, кажется небесплодным и в жизни, как в мысли, начало ядовитых сомнений и недовольства? Нет, это начало не годится и для жизни, и даже особенно для жизни, в которой без духа бодрого и здраво, трезво уверенного в своем деле, совсем ничего не поделаешь, а только расстроишь и сделанное; в деле мысли тоже, конечно, совершается под заправлением начала ядовитого недовольства и сомнений, – только здесь это бывает большею частию так – a priori, в пустой отвлеченности; совсем другое – ставить самую жизнь, свою и общественную, на карту отравляющих сомнений и недовольства, могущих разрушить или расстроить всякое добро, но решительно ничего создать и благоустроить. Если по этому началу сомнений мы и в жизни, как в мысли, стали бы с г. Зайцевым признавать за «святые и вечные истины» только потребности аппетита и «дважды два – четыре» и под<обное>, то очевидно, много ли доброго и благо-устроительного мы поделали бы в жизни[14].
Кстати нам теперь поговорить и об умственном скептицизме, порождение которого в русской мысли, или чуть ли и не в общеевропейской, я (юродствуя, конечно) приписываю будто бы, по словам г. Зайцева, «Отечественным запискам». О, други, друга! Такой скептицизм, за который г. Зайцев восстал на меня, пожалуй – и действительно – есть только порождение русской журналистики, хотя в своей книге я еще не имел основания говорить это. Да, г. Зайцев, после того как вы высказались насчет скептицизма в своем отзыве обо мне, я откровенно скажу вам, что вы только слухом слышали, а еще далеко не совсем понимаете, каков западноевропейский скептицизм. Этот последний скептицизм возник в западноевропейском мире и сделался как бы неотразимо присущею силою его мысли – вследствие таких причин. В этот мир, во имя и под видом святой для всех истины, вошла и в продолжение многих веков утвердилась очень многосторонняя и притом сильно деспотическая ложь[15], которая и въелась во весь склад западноевропейской жизни и мысли. Но в живом человеке, и особенно в таком обширном отделе живого человечества, как западноевропейский мир, неискоренимо живое чутье истины; и при самом обширном и многовековом преобладании лжи, тяготеющем хотя бы на всей области жизни и мысли, во имя самой истины всегда же возможны люди, столько любящие истину и чуткие к живому ее духу, чтобы всею силою своего духа сделать запрос о всем развитии мнимой и самозванной истины: полно, так ли это? И нашлись такие люди; и произошел и вошел в свою силу этот западноевропейский скептицизм, – произошел в глубочайшем своем основании, не от болезненных и блуждающих ядовитых сомнений, но именно от той глубокой веры и чуткой любви к истине, о которой (с возвышением, впрочем, ее и над западными, неизбежными в тамошних обстоятельствах, отравами или скептическими увлечениями многих) посоветовал было я «Русскому слову» говорить русским молодым людям. Посмотрите, каков этот скептицизм – в самом своем действии. Верный своему благородному источнику, этот западноевропейский скептицизм не дозволяет себе терять из вида лучшего даже и в западном духовенстве, односторонность и притязания которого так дорого обошлись всему западноевропейскому миру. «Мы смотрим, – говорит, кажется, авторитетный представитель западного скептицизма (Бокль – в конце V выпуска перевода книги его «История цивилизации Англии»), – мы смотрим на духовенство как на общество людей, которые, несмотря на их склонность к нетерпимости, составляют, без сомнения, часть обширного и благородного учреждения, смягчающего нравы людей, облегчающего их страдания и уменьшающего их бедствия». А относительно истин веры, которые с западной точки воззрения разумеются тоже более или менее односторонне, западноевропейский скептицизм, вне крайности увлечения своего, именно так держит себя, как только прилично и возможно по духу крепкой веры и любви к истине, а совсем не по ядовитым сомнениям. «Мы не посмеем, – говорит тот же, скептически-беспощадный и безуклончивый в самых своих началах, мыслитель, – не посмеем коснуться тех великих истин религии, которые совершенно независимы от духовенства, истин, успокаивающих ум человека, ставящих его выше минутного увлечения и внушающих ему те возвышенные стремления, которые, открывая ему его собственное бессмертие, служат мерою и признаком будущей жизни». Не ядовитыми нахальными сомнениями, как видите, проникнут скептицизм мыслительности Запада европейского. Итак, воля ваша, г. Зайцев, но с западноевропейским скептицизмом ровно ничего не имеет общего напускной ваш скептицизм. Ведь вы смеетесь, как над странным и нелепым для вас юродством, и над таким образом мыслей: Вера в свет истины вовсе не прочь от того, чтобы относительно всего, принимаемого на темную и слепую веру, задавать вопрос: да полно, так ли? Но один и тот же вопрос имеет совсем другой дух, когда его задает отчетливая вера в истину, – это дух, при всей своей энергичности, светлый и мирный, и совсем другой дух и сила в том же вопросе, когда он возникает из ядовитых сомнений, – это дух озлобляющий и отравляющий. И, без сомнения, жесткая и инквизиционная нетерпимость более сродна этому последнему духу, если бы только дать ему простор, нежели светлому и мирному духу всегда свободной (т. е. равно и противорабской, и противодеспотической) веры в истину. Ведь вера в свет истины совсем не то, что фанатический обскурантизм, надевающий на обольщение себя и других личину веры (с. 370).
Скептицизм наших гг. Зайцевых я назвал напускным. Он, в самом деле, происходит не из действительных и насущных наших потребностей. Обуявшие многих из нас односторонние или фальшивые направления, равно и неизбежные при переходе народного духа из непосредственной безотчетности к самостоятельной отчетливости затруднения и недоразумения, вызывают любящих истину только сделать энергическое напряжение, готовое даже к самопожертвованию по делу истины и потому способное разбудить мысль от усыпления, от невнимания и небрежения, даже от совершенного бессознания касательно того, что есть у нас же самих. И дело мысли и жизни у нас развернулось бы стройно и мощно, в живой связи и с европейскою мыслительностию, но самобытно и своеобразно. Самые результаты западноевропейской мысленной и жизненной работы наводят нас на наш истинный путь. Вот выше мы имели случай упомянуть об одном произведении Бокля, в котором он, наперекор напускному русскому скептицизму, с горячим сочувствием коснулся затруднений христианства, более всего от усыпления сил в христианах, и приподнял немножко завесу святилища своих заветных верований. В этой же статье Бокль поставляет на вид, что, по действующей ныне теоретической и практической логике, самый силлогизм – этот универсальный и основной нерв наших знаний – в существе дела есть еще не более как одна из форм еще только наведения. «Общего» мы еще, строго говоря, не знаем, чтобы твердо заключать от него о «частностях»; мы в силлогизме, как и в наведении, заключаем не от общей всецелости, нашим умом еще не захваченной, а только от множества частностей к той или другой отдельной частности. Итак, и самый силлогизм не ведет еще к истине; а о наведениях и других приемах только не более как вероятного и говорить нечего. Что же наши знания? Область вероятностей, в которых ошибкам и произвольным или опрометчивым выводам – необъятный простор. Совсем другое дело, по Боклю же, вот такой способ познавания истины: связан, например, был бы ты с другим человеком живыми и прекрасными узами взаимной чистой преданности, общих обоим вам чувств и дел добра, благородства, правды, общего отвращения от низостей и лжи, и вот этот человек сражен болезнью, умирает; ты видишь, ты неотразимо чувствуешь и сознаешь, что, с перерывом связи твоей с ним чрез его смерть, все нравственное здание твое, здание всего, условливающего для тебя достоинство человека, потрясается и готово обратиться в прах при допущении одной мысли, что этот человек, с которым связано у тебя все дорогое и святое, уже не существует навеки… «Нет, нет! – так вопиет против такой мысли все твое существо, – скорее все ложь и мечта, нежели только обольщение и мечта – вся эта жизнь любви, правды и добра; а когда это не обольщение и не мечта, то не может быть мечтою и обольщением загробная жизнь моего незабвенного соучастника в любви, правде и добре. Есть будущая вечная жизнь, есть царство вечной любви для самостоятельных человеческих личностей». Этот способ познавания, в котором истина неотразимо ощущается и слышится всею глубиною нашего духа, не с детскою, впрочем, безотчетною непосредственностию, но со светлою и освещающею все умственные и нравственные наши приобретения отчетливостию зрелого сознания, выражен Самим Спасителем нашим так: плоть и кровь не яви тебе, но Отец Мой иже на небесех (Мат. XVI, 17). Этот великий благодатный способ познавания истины не устраняет никаких других приемов и способов познавания, ни силлогизмов, ни наведений, ни опыта, ни умозрений, но только, как верховный и все обнимающий, подчиняет их все себе; так что человек, действующий этим способом познавания, умозаключает и соображает, делает опыты и входит в умозрения – под заправляющим всеми этими действиями сознанием и ощущением всезиждительной и всесодержательной любви Отца, открытой и удободоступной нам в Его Слове и Сыне чрез домостроительство Его вочеловечения и истощания ради нас, грешных человеков, светящейся нам именно благодатию Св. Духа. Вот что предлежит предначать для всего мира русской мыслительности! Само собою разумеется, что для вступления на этот путь и для самостоятельности на нем необходимо для нашей мыслительности серьезно и отчетливо допросить себя, в чем основание и правда самих ее законов и требований. Ведь самозаконие и самоуправление нашей мыслительности таково, что она подлежит обязательности своих законов, осуждающей ее в случае нарушения этих законов, что потому располагать ими по своему произволу ей не дано, что, следовательно, тайна законодательства и верховного суда мыслительности нашей выше ее самой, а следовательно, выше и всевозможных ее систем как развитых из нее же, по ее же законам и способам. В чем же или в ком эта тайна? Без решения этого вопроса мыслительность наша, как бы ни была широка и хотя бы развивалась до бесконечности, осуждена в самом основании своем на бессознательную темноту, которой, однако, противится все ее существо. Так мыслительности нашей, ради себя самой, ради того, чтобы не пропадало ее дело и она сама, надо ей наконец (а следовало бы еще прежде всего) воззреть к Господу, всячески и непрерывно стучащемуся в ее храмины, превращающиеся уже и у нас едва ли не в вертепы не школ или партий, а каких-то шаек; надо испытательно и, пожалуй, осязательно дознать Его правду по всему, чем Он заявляет и оправдывает, как мы уже говорили о том, Свои непреложные права над нашею мыслию и жизнию, надо с плачем, – с плачем и скорбя о своем прежнем отчуждении от Него и радости обретения Его, – принять Его к себе, чтобы Он всегда и во всем был с нашею мыслию, и она с Ним, как невеста, разделяющая вечерю Агнчую с своим единственным Женихом.
Западноевропейская мысль располагает нас к этому же и своими отрицаниями. Возьмем во внимание, например, хотя бы известную отрицательную критику библейскую, всячески подкапывающуюся под самые главные источники Христовой истины – Св. книги. Вот эта критика все думает опереться на прямой, как ей кажется, рациональный порядок происхождения этих книг, именно такого, какое она разнообразно измышляет. Выясните же вы внутренний и живой порядок, в каком стройно и строго последовательно раскрывались божественные откровения; выясните это так, чтобы выясненный вами порядок просто и беспринужденно прилагался и к каждой Св. книге в отдельности, и ко всему последовательному ряду и совокупной целости этих книг и чрез это вполне оправдывался бы в своей истинности. Что тогда окажется? Чрез этот внутренний порядок происхождения Св. книг открылась бы совершенная невозможность или осязательная нелепость переносить их, по разным гаданиям и соображениям, с своего времени появления на другое, выдумывать небывалые мирские цели и побуждения к их написанию и чрез это извращать все их содержание и действительный их смысл. Так вид живого организма и знакомство с внутренним порядком его жизни не дозволяет изменить положение в нем отдельных членов и выдумывать небывалую в нем, какую-нибудь уродливую жизнь, что так легко и бесконтрольно можно было бы сделать, имея пред собою только скелет.
Внутренний порядок откровений, как ветхозаветных, так и новозаветных, в общем их составе и в важнейших их отдельных явлениях (т. е. отдельных книгах), немало, может быть, в существе дела уже и выяснен тем же, кого г. Зайцев провозгласил юродствующим. Но ни духовная мысль в интересе изучения слова Божия, ни светская в интересе науки и критики не обращают у нас внимания ни на что подобное. Нужды нет, что и западноевропейская критика, о которой знает наша русская мысль и ученость, располагала бы и требовала бы внимательно следить за всем подобным. Зачем это нам?! Мы лучше возьмем из отрицательной критики только этот могучий рычаг мысли – скептицизм и во имя его замкнем себя в ребячески-тесный кружок вот этих единственных будто бы, по этому скептицизму, «святых и вечных истин», что надо есть и пить для поддержания своей жизни, что бывает больно, когда бьют, что дважды два – четыре, и подоб<ных>. Ведь это ваше, г. Зайцев, скептическое умозрение?! Оно и основательно: потому что, строго и честно рассуждая по логике, никак не найдешь святой и вечной истины помимо Христа и потому придется остановиться только на том, что знают и малые ребята, да и эти «святые и вечные истины», известные ребяческому ощущению и смыслу, придется принять тоже не иначе как по-ребячески безотчетно, хотя уж и, несомненно, по одной, простой и обязательной для ребят, наглядности. И как в то же время это правосудно над нами! Не хотим с зрелою отчетливостию и основательностию принять, как дети, царства Божия, царства истины и правды, мира и радости в Самом Духе-Утешителе (Рим. XIV, 17): окажемся, как дети, по своему упрямству и ребяческому сознанию только ребяческих истин. Мечтаем, что этот наш ребяческий скептицизм – благородная отрасль западноевропейского скептицизма, действительно благородного в коренном своем источнике – вере и любви к действительной истине; а на самом деле «ядовитые сомнения» у нас – плод только того, что, свихнув с истины и, однако, вертясь около нее же, естественно, обжигаемся и небесным ее огнем, и запалениями собственных представлений и в жестокой боли кричим, как горячечные больные, на все и на всех…
Вообразите, говорит г. Зайцев своему читателю о вашем покорном слуге, юродствующий хвалит роман «Что делать?» Чернышевского, хвалит журналистику светскую. – Да, это очень удивительное и трудновообразимое в нашей литературе дело – протянуть руку открыто и прямодушно всему лучшему, подходящему к живой истине, хотя бы то было и у людей совсем не дружеских с нами школ. У нас ведь бывает, кажется, так, что люди не нашего закона, не нашей партии – уж по этому одному, должно быть, пошляки или достойные только смеха юроды. Пусть так! Но я искренно и справделиво хвалю и похвалю и г. Зайцева за все, что у него есть лучшего, нимало не задерживаясь милою и благородною его деликатностию в отношении ко мне. Вообразите, в самом деле, такие небывалые у нас вещи, наблюдательный читатель!! Только г. Зайцев, кстати, взял бы во внимание уж и то, что, когда я во имя всего разумно-живого и лучшего, что встретилось бы мне в людях противного мне воззрения или печать чего еще видна в них, отношусь и к ним с братским сочувствием и уважением, – сам далеко не то испытываю со стороны этих людей. Меня они честят или как человека противоцерковного, или как забавно юродствующего. Видно, когда я и протягиваю им руку братства с искренностию и любовию, то с такою же сердечною теплотою пожать мою руку – значит уже для них некоторым образом изменить чему-то своему, что им дорого и с чем я никак уж не могу и не хочу соглашаться. Видно, чувствуется и понимается ими, что, с моим мирным и симпатическим к людям воззрением, у меня далеко нет поблажки и покровительства ничему в них худшему или двусмысленному по делу истины и добра, что со мной сойтись по этому делу, пожалуй, труднее, чем с теми, которые все и всех бранят, что для простого заявления сочувствия мне уж надо пожертвовать кое-какими привычными понятиями, пристрастиями, формами, и прежде всего столько усилившеюся у нас самоуверенною нетерпимостию к противному воззрению, не дозволяющею даже обсуждать это последнее без вражды и гнева. Потому-то, например, сам же г. Зайцев может оказать мне бесценную услугу – заверить всяким честным словом г. Аскоченского, что, сколько он ни ревнует бранчиво по православной вере, его все-таки скорее можно удовлетворить в этом отношении, нежели меня, как я ни мирен по этому делу. Также и г. Зайцева может твердо убедить сам г. Аскоченский, что крайне опрометчивая ошибка – сближать мое дело с «Домашнею беседою» (как это сделал было г. Зайцев в своем отзыве обо мне), что с последнею скорее побратается «Русское слово», по крайней мере чрез издевки надо мною. Да, мои братья! Кроток, мирен и примирителен в высшей степени – этот голос: по Христе убо молим, яко Богу молящу нами, – молим по Христе, примиритеся с Богом; ибо Бог Христа, не видевшего греха, по нас «грехом» сотвори, да мы будем правда Божия о Нем (2 Кор. V, 20, 21). Но сочувствовать и соответствовать этому голосу нельзя иначе, как уже отвергая самые даже льстивые и модные воззрения на истину помимо Христа, пренебрегая самою беспорочностию по правде законной, а от всей души признавая одного Христа истиною и правдою нашею и держась Его, притом в духе такой Его любви, по которой Он светит и во тьме и потерпел за заблуждающих<ся> грешников так, как бы Сам был олицетворенным заблуждением и грехом. Вот оно что!
Скажу, по осенившему меня чувству моего нравственного одиночества среди современников, несколько слов и о том, что касательно моей книги в «Русском слове» порадовались, по крайней мере, тому, что-де и из Москвы, из московской юродивой глуши, слышатся толки о наполеоновских идеях, о современности и подоб<ном>. – Мне придется разочаровать г. Зайцева и в этой его радости. Я должен ему откровенно рассказать, почему именно книга моя «О современных духовных потребностях…» вышла не в Петербурге, а в Москве. (Злорадство, конечно, с удовольствием примет это к сведению, но, поверьте, и история русской мысли и слова когда-нибудь резко отметит мой рассказ на своих страницах.) – Предложено было издание моей книги сначала петербургскому книгопродавцу; но случилось так, что во время самых объяснений по этому предмету вошел в книжную лавку представитель и в Петербурге московского[16] начала – г. Аскоченский. Завидев его, книгопродавец поторопился сейчас же покончить дело о моей книге, высказав, что он находит неудобным принять на себя ее издание, подал руку пришедшему и скрылся с ним за книжными шкафами. И вот я передал свою рукопись московскому книгопродавцу… И я, разумеется, нимало не в претензии и против петербургского книгопродавца. Людям этой профессии как же иначе поступать, когда они знают, что в публике господствуют направления, мне неблагопрятные; а те люди, призвание которых – служить посредниками и проводниками между публикою и книгами, особенно книгами непривычного для публики направления, стараются только между мною и публикою поднимать выше и выше стену неблагоприятных мне направлений?? Итак, взяв во внимание если не содержание и дух моей книги, то рассказанный мною факт, заставляющий меня доныне краснеть от горького стыда – не за свое дело, а за то, как оно у нас в России понимается и ценится, как его чуждаются и других отчуждают от него равно и московские и петербургские начала, или умственные и практические тенденции, – взяв это во внимание, «Русское слово» может судить, насколько моя книга принадлежит Москве в существе дела. Нет, ни по московским, ни по петербургским людным улицам, а одиноко и пустынно лежит пока моя дорога, хотя, идя по ней, я не считаю чужими и посторонними для себя не только и наполеоновские идеи, но вообще все, что совершается и слышится в нашей современности, все, в чем только замешан человек, за которого Господь стал человеком. При всем моем духовном одиночестве, не мне принадлежит замкнутая в себе теснота как невежества, ничего почти не знающего и знать не хотящего, так и сродной ему той образованности, которая за узкими своими пределами уж не внимает ничему и потому не имеет и понятия ни о чем, а только дерзка неудержимо в приговорах о том, чего, как и невежество, она не знает и знать не хочет.
Да и теперь повторю сказанное в моей книге, что поносить, например, и юродство Христа ради как какую-то глупость, годную только на то, чтобы пользоваться образом и названием этой глупости только в насмешку над кем-либо, юродствующим будто и в письменном деле, – издеваться таким образом над юродством без надлежащего обсуждения этого явления недостойно и чуждо действительной образованности. Не так относились к этому явлению и самые, скажу так, отцы нынешней светской критики, как, например, Белинский, с уважением его касающийся. Тогда как ребяческое легкомыслие с издевками пишет и издает книжки о целых десятках юродивых в Москве и ее окрестностях[17], мыслящему человеку естественно остановиться на вопросах: отчего юродство, этот необыкновенный сам по себе род жизни, составляет такое обыкновенное явление в России, отчего так горячо и непоколебимо сочувствуют ему русские люди, особенно водящиеся простым чувством веры и правды и знающие почти одну науку простого здравого смысла, отчего не только издевки, но и действительные злоупотребления и лицемерные подделки юродства, встречающиеся в жизни нашей, не успевают подкопаться под глубокое народное уважение и почти даже верование к юродству? По фактам, мною долговременно изучаемым, я, с своей стороны, не могу не признать юродства Христа ради – чем, вы думаете? да именно – нашим православным, вызываемым прямыми и настоятельными потребностями нашего православно-народного духа, скептицизмом, твердо – не на словах только, а всею жизнию – делающим против господствующих над умными людьми направлений, против разнообразных их, не по Христу и Его правде, умничаний, практических и умозрительных, такой запрос: «Да полно, ум ли, разумность ли все это, а не скорее ли, по своему существу, такая же глупость, какую мы показываем в себе по наружности и по роду нашего подвига, как будто и мы такие же дураки, виноватые глупостью наших братьев и сестер!» И народное чутье слышит правоту этого запроса, и православные, зная за собою вину одолевающих их и в мысли и в жизни разных глупостей, идут к юродивым, как <к> своим вразумителям и вместе щедрым уплатителям долгов своей глупости, и потому не смотрят в этом случае ни на возможности ошибиться, ни на какие издевки… Мыслящий читатель моей настоящей статьи, на основании и того только, сколько раскрыты в ней некоторые жалкие стороны нашей русской мысли, найдет вполне основательным и верно отвечающим на состояние и потребности нашего духа – этот скептицизм юродства, о котором сейчас сказано мною. А я к сказанному прибавлю, что моему направлению и воззрению к Христу как к единственной истине и правде для всякого дела и для всей полноты мысли нашей, для всякой среды и дела жизни нашей, и Который притом таков именно по духу Своего снисхождения в мир и самопожертвования за мир, я находил прямое сочувствие и соответствие и поддержку, особенно, в юродивых Христа ради, снимавших с себя иногда для выражения этого самое покрывало своего юродства. Это факт! В этом отношении, пожалуй, и за г. Зайцевым остается доля правды в названии меня юродствующим, как такого человека, дело которого – юродство для подобных г. Зайцеву умников (за то, что оно требует от них основательности и разумной правоты собственного их дела) и почти только для юродивых – вполне разумно… Грустно, однако, и скучно, скажу снова, до болезни грустно в нашем русском мыслящем мире, в котором попадают довольно удачно на истину иногда, только осмеивая эту истину…