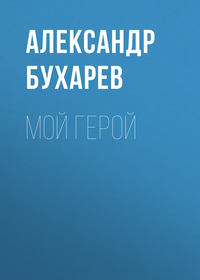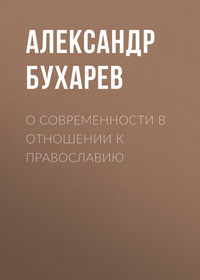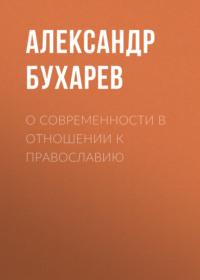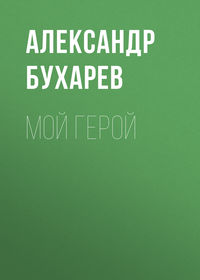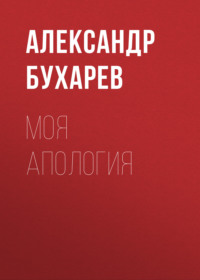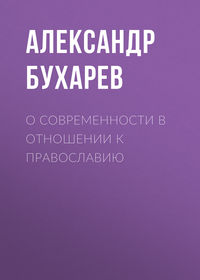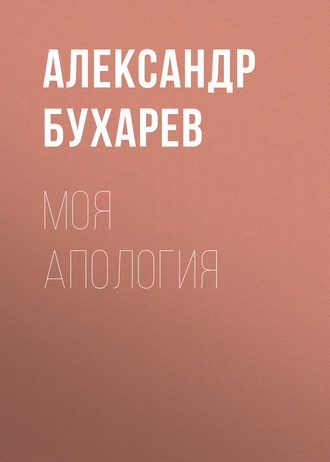 полная версия
полная версияМоя апология
Таким образом, и моя судьба с роковою ее переменою, насколько она может быть выясняема, особенно из моей книги «О современных духовных потребностях…», не дает основательного повода к заподозриванию меня в противоцерковном начале. Но все же стоит разъяснить, почему же духовная критика нашла в моей книге, наперекор всем вышеприведенным из нее данным, преднамеренное молчание о Церкви? Если по моей совести и по ясным свидетельствам из моей книги нет с моей стороны причины к заключению о книге, сделанному духовным критиком, то нет ли какой причины к этому со стороны самого критика? Действительно, есть такая причина в самом направлении[7] духовной мысли, которому следует мой критик, но которому, ради истины и блага Св. Церкви, с силою противодействует моя книга.
Для выяснения, в чем тут дело, я должен поставить на открытый вид собственное духовное направление, несогласие с которым духовного критика увлекло его до ложного, как оказалось уже, обвинения меня в намеренном молчании о Церкви.
Я своею верою стою за единую Св. Церковь – православную, со всеми ее догматами и правилами, принадлежностями и учреждениями, но стою за нее, по слову Божию и собственному ее учению, именно как за благодатное тело Самого Христа или как за такую Его полноту, в которой Он наполняет все во всем Самим Собою, в силе Святого Своего Духа и по благоволению Своего Отца (Ефес. I, 22, 23). Исповедаю, что йота едина или черта благодатной православной церковности не прейдет; но всю силу непреходящей новозаветной церковности, весь божественный авторитет Св. Церкви признаю и полагаю существенно в одном и Самом Христе, Божием Сыне и Агнце. Он есть глава единственный и вседействующий благодатию Св. Духа в Своей Церкви, которая потому и следует этому, непреложному для всей ее целости и для каждого особого ее члена, закону веры – не к тому себе жить, но жил бы в ней и в каждом ее члене Сам Христос (Гал. II, 20). В особенности Господь в тех членах Своего благодатного тела – Церкви, которые принадлежат к иерархически избранным и освященным Его сосудам или орудиям, проявляет благодать Своего вечного архиерейства и священства, возводящего нас в любовь Отца Небесного; но такое их служение установил Он в Церкви как необходимое именно для того, чтобы быть Ему же Самому благодатию и духом Своим и в прочих членах Своего благодатного тела – в верующих мирянах. Из такого существа и устройства Церкви объясняется, что в благодатной ее области, в этой области любви и благоволения Всевышнего Отца, есть и материнское церковное руководительство верующих, принадлежащее в основании и существе дела Самому человеколюбивому нашему Спасителю и Его Духу; и – остается не стесненною духовная самостоятельность детей Церкви, условливаемая благодатным присущием в них также Самого Христа и сыновнесвободного Его Духа. Это с чудною духовною стройностью и красотою открывается (и в моей книге с особенною любовию следится) в истинно благодатных и живых отношениях как между православными властями – светскою и духовною, так и вообще между православными духовными и мирянами. Так, духовная власть, или православная иерархия, не вмешивается (без призвания и приглашения) в дела и распоряжения царя и правительства его, чтобы самозванно и мятежнически не посягнуть на располагающую ими власть Самого Христа, Господа нашего; повинуясь царю в гражданском порядке, церковное пастырство и в этом служит державе Самого Господа своего. Равным образом и православный государь с своим правительством чужд всякого притязания на присвоение себе собственно-духовной власти; внимая, как сын Церкви, духовному руководству пастырей церковных и предаваясь «тайноводственной» в них (совершающей Божественные таинства) благодати, государь чрез это следует и предается также Самому своему Спасителю и Господу Иисусу Христу, не отграничиваясь от людей в своей власти (см. в моей книге с. 573 и 574). Так точно и вообще бывает или должно быть, что духовные, будучи соработниками Богу и строителями тайн Божиих в своем служении спасению людей (1 Кор. III, 9; IV, 1), всю силу своего церковного авторитета и дела полагают, однако, в Самом Господе, Которому неуклонно и внимают во всем на поприще своего служения; они знают из слова Божия о своем «соработничестве у Бога», что ни насаждали что есть, ни напояяй, но возращаяй Бог (там же, III, 7), что даже при апостольской высоте и обширности служения духовного следует мыслить и располагаться так: паче всех их потрудихся, не аз же, но благодать Божия, яже со мною (там же, XV, 10). Внимая же и следуя Самому Господу и человеколюбивому Его Духу в своем служении, новозаветные пастыри чрез это и становятся далеки от той ветхозаветной жестокости, чтобы только возлагать тяжкие и неудобоносимые бремена на других, не касаясь сами и пальцем этих бремен (Мат. XXIII, 4). Напротив, они, в духе Христова снисхождения в мир и самопожертвования за мир, соучаствуют своим духом и сердцем в отягчающих мирян бременах, служа всею душою своею, своим пастырством, учением и таинствами тому, чтобы Христос был Своею благодатию с православными во всякой их среде и работе мирской к избавлению всего от зла и греха. Да! Православные служители алтаря, верные своему призванию, сознают себя призванными и необходимыми для послужения благодатию, им данною, именно тому, чтобы Господь, в силе Своего Духа, был Сам со всеми и каждым в новом Израиле и чтобы таким образом каждый в своей области имел уже не подавляемую повелителями и приставниками (Гал. IV, 2) духовную в Господе самостоятельность, и это – столько же в отношении к знанию, сколько и к каждой деятельности и работе человеческой. Они, православные духовные, вменяют себе в непременную обязанность в своих отношениях к мирянам беречь духовную их самостоятельность под опасением в противном случае несчастной возможности коснуться стеснительно и принудительно самого Духа Господня, не чуждого в Церкви и мирянам. Зато и эти последние, православные миряне, если хоть сколько-нибудь дорожат тем, чтобы Христос был с ними и в них, не могут не дорожить уважительно и послушливо самим церковным руководительством и пастырским званием, служащими вселению Христа в их умы и сердца чрез веру; хотя при этом они и сохраняют, не по своеволию и возношению, а ради увенчания в них дела самих пастырей, духовно-благодатную свободу чад во Христе Самого Бога, приобретенную им Христовою кровию и даруемую сообщением им Духа усыновления. И обыкновенно так бывает, что прихожане и последним поделятся с своими отцами духовными, когда живо сознают и почувствуют, что, по служению духовенства молитвою и словом и делом, Христос точно пребывает благодатно в них и с ними, труждающимися и обремененными в этом мире (с. 445, 242 и 243).
По раскрытому сейчас существу и действию православно-церковного порядка, нет места в Св. Церкви ни духу папистического, подавляющего преобладания над верою, этого совместничества с единственным и вседействующим главенством над Церковию Самого Господа, ни направлению своеволия и самочиния протестантского, не повинующегося также Самому Господу чрез отрицание церковных освященных служителей, правил и учреждений; хотя притом с возвышением над этими двумя фальшивыми односторонностями и авторитет Церкви возвышается до Божественности ее главы – Самого Христа, и благодатная свобода, или духовная во Христе самостоятельность верующих, утверждается непоколебимо в Самом же Христе и Его Духе, Им сообщенном в Церкви. По такому православно-церковному порядку выходит, что усвоение нами себе Христа в живом Его Духе, сыновнесвободном, человеколюбивом, до схождения Его с небес в мир наш и до самопожертвования Его за этот грешный мир, и составляет бесценную принадлежность и обязанность нашего «вцерковления» (как выражается мой критик), или нашего внедрения и утверждения в Св. Церкви как членов этого благодатно-живого Христова тела; так же как и, наоборот, разумение, соблюдение и раскрытие православия церковного, истин, правил и учреждений Церкви, не одушевляемое животворящим Церковь духом святого Христова человеколюбия и сыновнесвободной самостоятельности и правды, не направляющее духа нашего к Самому Христу, не может служить истинному духовному просвещению и оживотворению нашему. Потому-то моя книга, в видах не задерживания, а раскрытия животворного и просветительного для нас и всего мира значения Св. Церкви, усиливается, особенно, направлять мысль и чувство духовных и мирян к Самому Господу, располагать и вводить верующие души в истинный и живый Дух Христов, стоящий за все человеческое, кроме греха, или зла, им упраздняемого, – дух не осуждения мира, но спасения его, дух не стеснения рабского, но сыновнесвободной и твердо самостоятельной правды, Агнчий дух кроткого снисхождения и смирения, но не жесткого возношения или забитого унижения духовного. Вот это-то самое и оказалось противоборным направлению мысли и духа моего критика. Усильные мои убеждения и внушения (согласно самому существу православия и Церкви) возвышаться и направляться в деле мысли и жизни прямо к Самому Христу, к усвоению себе Его Агнчего духа, и в одном Самом же Христе полагать всю силу руководительства и авторитета церковного приняты критиком за «покровительство идеализму, таинственности». Настоятельное мое (выводимое из коренных начал Христова тела – Церкви) требование неприкосновенности и в мирянах православных духовно-благодатной свободы или духовной во Христе самостоятельности, – показалось критику чем-то противоцерковным. Каково же это духовное направление, коснящее, под прикрытием мысли о Церкви, подниматься мыслию и жизнию во всем, особенно прямоцер-ковном, к Самому Господу и даже считающее самое требование этого и стремление к этому мистическим идеализмом?! Каково направление, посягающее во имя Св. Церкви – этой (см. Гал. IV, 26-31) свободной матери благодатно-свободных детей – на отнятие или ослабление духовной их самостоятельности?!
Можно бы не поверить или усомниться, чтобы не обскурант присяжный, а служитель духовного просвещения пошел против блюдомой самою Церковию духовной нашей самостоятельности в деле оправдания и спасения. Но духовный критик высказывается на этот счет с полною откровенностию. Вот его возражение против требования, и даже допущения, в деле спасения и усовершения духовного, духовно-свободной самостоятельности, не стесняемой по-ветхозаветному повелителями и приставниками. Взяв за основание возражения мои же слова в книге (с. 274), что благодатному прямо противоположна только наша греховность – прирожденная и произвольная, – мой критик говорит: «Но творяй грех, скажем мы, с своей стороны, с Апостолом, от диавола есть… Спрашивается: что же по этому воззрению остается на долю человека? Чем свидетельствуется его самостоятельность в деле оправдания и спасения?» На такое затруднение в развитии моих мыслей, по словам критика, я будто бы и не обратил внимания. Но признаюсь, подобного затруднения к признанию в деле оправдания и спасения нашей самостоятельности я не считал и теперь не считаю и затруднением. Творяй грех от диавола есть – неоспоримо так; но от диавола есть такой человек только как творяй грех. Но как создание этот же человек уже от Бога есть; особенно от Бога же есть, а не от диавола, остающееся и в падшем или грешном человеке то предрасположение к истине и добру, то соуслаждение его, по внутреннему человеку, закону Божию (Рим. VII, 28), закону истины и добра, которое делает человека грешного еще открытым к познанию и принятию истины и благодати. Итак, видите, что на долю человека грешного, еще даже на пути его в Церковь, предоставлено от Бога столько (чего? – конечно, благодати, хотя только предваряющей), чтобы ему можно было и вступить в Церковь с полною духовною самостоятельностию. У нас в церкви маленьких ребят держат при крещении еще на руках – только по физической немощи и бессознательности их младенчества; но и тут Св. Церковь требует представителей и порук духовной их самостоятельности, свободно отрекающейся от диавола и сочетающейся со Христом, – восприемников. Тем более, уже сочетавшись со Христом и облекшись в Него и запечатлевшись владычественным Его Духом, православным не только можно, но и непременно должно сохранять и выдерживать благодатно-свободную самостоятельность сынов и дочерей Божиих (опять, разумеется, сколько это совместно с их физическим возрастом и развитием; но и тут самое развитие неполновозрастных должно вести в духе свободного усыновления их всеблагостному Отцу, а не подневольного рабства под приставниками). – Притом же еще, это Божие слово: творяй грех от диавола есть, есть меч острый не с одной стороны, но с обеих сторон, меч обоюдоострый. Творить грех и в этом отношении быть от диавола может случиться кому бы то ни было, не исключая никого и из пастырей и учителей церковных, не исключая даже апостолов (вспомните Искариота Иуду). Итак, допустите, а вы не можете не допустить, возможность того, что приставники церковные – многие ли или один, кем вы стеснили бы или связали бы духовную самостоятельность чад Церкви, – впали бы и сами в несчастие сотворить грех, впасть в практическое или умственное заблуждение, в одностороннее и фальшивое направление и тому под. Куда, к кому они поведут и состоящих под их духовною опекою, не дающею этим последним пользоваться духовною самостоятельностию? Знаете, что творяй грех от диавола есть… Посмотрите на Запад, где уже совершилась эта злополучная возможность в области самой Церкви и церковного водительства[8]. Но нет, да не будет этого с нами! Духовные, в деле своего служения спасению людей, да внимают своим духом всегда Самому Господу, единому наставнику и двигателю сердец и умов, и с бережностию да охраняют духовную самостоятельность пасомых, из опасения, как бы иначе принудительно или стеснительно не коснуться самого Духа Господня, даруемого в Церкви и мирянам. Чрез это они и служат тому, чтобы Сам Господь вел руководимых ими и Дух Его охранял их на всех путях; и вместе тем же они отражают от мирян православных всякие умыслы и самую даже мысль о разделении между интересами духовенства и интересами Церкви и веры, между интересами жизненными (гражданства, политики, всей мирской жизни и мысли) и интересами религиозными, как это завелось на Западе[9]. Равно и пасомые ими миряне, в своих отношениях к духовным своим руководителям и отцам, да внимают и да следуют духом своим тоже Самому Господу, единственному вождю и путю <так!> для людей к Отцу. Чрез это и они не только оказываются верными исполнителями церковных внушений и забот о их спасении, но служат и с своей стороны живою поддержкою для самих духовных – в верности Господу и Его Духу. Ведь вере, внимающей Самому Господу, внимает и Сам Господь; это – как во всем, так и в отношении к пастырям церковным.
Против этого, как кажется критику, «идеализма», так же как и в подрыв или ослабление личной духовной самостоятельности в союзе с Господом, критик так возвышает значение Церкви: «Она продолжает в мире воспринятое Иисусом Христом дело искупления… Церковь – это применение дела закланного Агнца к обновлению спасаемого мира….» – Знаю, что подобные выражения и представления встречаются у некоторых богословов в известном относительном смысле. Но все же должно сказать, что эти представления и выражения о продолжении Церковию дела Христа не имеют строгой догматической точности. Церковь продолжает в мире воспринятое Иисусом Христом дело искупления? – Не то говорит слово Божие: Христос… Своею кровию вниде единою во святая, вечное искупление обретый. Единем бо приношением совершил есть во веки освящаемых (Евр. IX, 11-12; X, 14). Не только воспринятое, но и совершенное Спасителем однажды навеки дело искупления не нуждается в созданных продолжателях этого дела, для них и невозможного. Церковь не совсем правильно называть и применением дела Христова к обновлению мира. Она ведь и сама есть дело Христово, по его слову: созижду церковь Мою (Мат. XVI, 18). Сохрани нас Бог от таких возвышений Церкви в наших представлениях, которыми открывалась бы возможность во имя Церкви предвосхищать людям, хотя бы и освященным, принадлежащее единому Господу и отнимать у других людей, хотя бы мирян, дарованное им от Господа! Нет выше и досточтимее внушаемых самим словом Божиим представлений о Св. Церкви как о благодатном Христовом теле, составляемом и счиневаемом (или стройно и целостно развивающемся) из своего главы Христа (Еф. IV; 15, 16), и еще как о невесте, Агнчей жене (Апок. XXI, 9). Но мысль о Церкви как о невесте, жене Агнчей, внушает нам, что Церкви, даже и в отношении к Самому Господу, свойствен дух невестинской свободы, дух дерзновенного стремления любви, сколько возможно полнее и внутреннее сообщаться его мудрствованию и расположениям; такой благодатно-свободный дух и должен раскрываться во всех ее членах – духовных и мирянах. Мысль о Церкви как благодатном Христовом теле обязывает всех членов этого тела искать и полагать прямо в Самом Христе все жизненное и для каждого из них порознь, и в общем их союзе и взаимных отношениях. Вам это не кажется идеализмом? Но выше всякого идеализма – возвышаться нам, в мысли и жизни, к Самому Господу; хотя, держась Самого Господа, сошедшего в наш мир чрез Свое воплощение и вземлющего на Себя грехи мира чрез Свой крест, мы не чужды будем и объемлющего всякую мирскую и материальную действительность реализма… Только смотрите сами, что вы, чуждаясь этого, как хотите, идеализма или реализма, не впали ли уже в недобрый идеализм, не снисходящий к мирскому и земному для его возвышения ко Христу, – в это самовозношение за облака, противное и духу снисхождения Господня до вочеловечения и до жизни и смерти ради именно грешных и погибающих, противное и духу превознесения Господня на небеса, хотя с обоженным, но нашим же, земным, человеческим естеством (с. 79 моей книги); не впали ли вы вместе и в тот худой материализм или реализм многих, который, стараясь благоустроять и возвышать вещественную сторону земного быта мирян и духовных, остается бесчувственно-равнодушным к выяснению и упрочению и за этою стороною Христовой благодати, открытой для всего человеческого к спасению его от скверны и лжи греха (с. 75). Ведь, в самом деле, невелика находка для христиан и, особенно, для духовенства – улучшить свой земной быт, но не поставив и этот быт сознательно под Христову благодать.
Довольно о взводимой на меня критиком вине идеализма и мнимого моего молчания о Церкви. Затем уж не касаюсь ни развиваемой критиком, довольно верной (за исключением некоторых вышеразобранных представлений) теории о Церкви, ни поставления на вид разных несообразностей и нелепостей противоцерковного начала. Все это направлено, правда, против меня и моей книги; но так как и мне самому принадлежит и в книге высказывается (как доказано выше) такое же православное умозрение о Церкви, так как и мне чуждо и в книге моей отрицается противоцерковное начало, – то вся эта полемика моего критика идет, собственно, мимо меня, направляясь в цель, которую он сам сработал и в которую стреляет, как в воображаемого неприятеля. Не могу, впрочем, иногда не улыбнуться, что и особенно нелюбимыми мною мыслями критик ратует против меня, как мыслями, принадлежащими моему образу мыслей. Так, по словам критика, у меня «как бы покровительствуется та мысль, что обществу других, связанных с нами узами единой веры и упования, нет дела до нас», – оно т. е., может быть, и пусть будет, к нам вовсе равнодушным и даже несправедливым!!! Но я, напротив, до глубины сердца оскорбляюсь и сетую, когда общество людей, связанных с кем бы то ни было верою, остается равнодушным к нему, к его делу и судьбе.
Обратим внимание, хотя уже более беглое, и на другие черты неправомыслия, изобретенные критиком насчет меня.
Критик говорит, что я «во всем, начиная от изделий мечтательного романа и кончая хлопотливыми заботами о житейских потребностях, думаю будто бы видеть инстинктивное или сознательное служение Христовой истине и благодати». – Это неправда! – Я думаю (и эти думы высказал в своей книге), думаю и уверен, что и в заботах о житейских потребностях, и в делах купли и продажи можно быть и действовать со Христом, нисходившим до наших естественных потребностей, – верховным Хозяином всех предметов купли и продажи, дающим воззреть к Себе при виде каждого человека как не омраченного еще совсем Его образа – к этому я и убеждаю моею книгою; можно за теми же делами и строить только Вавилон на свою пагубу – это и обличается в нашем большинстве моею книгою. Вот, например, слова моей книги, обращенные к купцу после выяснения, как ему, и за своим прилавком, служить Христу: выбирай любое – либо благодать Божию, эту силу истинно Небесного Царства, либо Вавилон, который неминуемо пропадет, сгорит. (Апок. XVIII, 8). Долго ли нам, православным, быть в плену вавилонском? И мучимся мы, как какие колодники, в нашем Вавилоне и т. д. (с. 54). Это служение кому?? – Так и в произведениях литературы, хоть бы в романах, я признаю возможность и раскрывать те или другие стороны истины, которая вся принадлежит Христу, и проводить обольстительную ложь. С этою господствующею мыслию я и разобрал в своей книге два романа, из которых в одном старался отделить все лучшее от худшего, ложного, иногда опровергаемого ненамеренно самим автором – собственным его чутьем истины (с. 497), а в другом – примечаю верное и живое художественное отображение одной из сторон высшего мироправления, совершающегося в нашей современности при столько заметном разладе между старым и новым поколением (с. 526 и 527). Это урок и опыт, как и за делом легкой для чтения или изящной литературы учиться и служить серьезной, живой истине и спасительному для общества добру, а не легкомыслию, или пустоте, или ядовитым сомнениям и расположениям. А критик выдумал, будто я во всем подобном вообще думаю видеть служение истине Христовой! Дело только в том, что ничем подобным заниматься я и сам не хочу и другим не желаю – иначе, а не в интересе истины Христовой, всем заправляющей. Иное дело, что все может быть поприщем для служения Христу, в Котором одном истина и спасение для всего; и иное дело во всем, даже греховном, – и видеть только служение Христу. Первое утверждаю я, раскрывая то же и в книге моей, как вызываемое вопиющими потребностями духовными в наше время. Последнее, против прямого смысла и слов книги, критик сам выдумал и приписал мне и моей книге.
В соответствие этой выдумке духовный критик вот еще что (как уж знает читатель из самого начала этой статьи) говорит о статьях моей книги: «Они весь ход обновления мира и воссоздания человечества представляют если не моментально совершившимся в существе Голгофской жертвы, то – продолжающим совершаться чрез всю историю человечества, в силу, так сказать, тяготеющего над нами и нравственно необходимого закона – возглавления всего Агнцем». – Опять неправда, и неправда вопиющая! – Я с особенною резкостию и силою поставляю на вид, что, по православному разумению смысла и хода всемирной истории, предначертанного Вседержителем от вечности и относящегося действительно к целям обновления мира и воссоздания человечества, – мир и его развитие никак не оказываются жертвою всевластного и всепоглощающего Вышнего произволения, волею или неволею служа непременно исполнению этого произволения, как бы тяготеющего над нами и нравственно необходимого закона. Я разъясняю, что именно в силу собственного Христова (назначенного от вечности и действующего своим значением или духом от самого сложения мира) самопожертвования за мир и обоснования на этом всех судеб мира, – в силу этого благодать Божия и раскрывается хотя в строго последовательном и торжествующем над мирскими беспорядками порядке истинного развития человечества, но решительно без всякого подавления или насильственного увлечения человечества своим вмешательством (см. с. 165). Вся моя книга – доказательство, что наше обновление я признаю невозможным без нашего свободного и живого вхождения в Дух Христов (которым живет это Христово тело – Св. Церковь). Потому-то я и трепещу за наше, например, поколение, чтобы, при вольном его невнимании и непослушании Господу, Который ведет нас и желающих из нас непременно доведет до земли обетованной, до обновления и оживления нашего во всем развитии нашей мысли и жизни, – нашему поколению тем не менее не пришлось бы, пожалуй, измереть в пустыне Аравийской, предоставив войти в землю благодати уже новому, лучшему поколению (с. 38). Подумайте, – говорю я всем, – очевидно не допуская и тени той мысли, что обновление мира и наше уже «совершилось в существе Голгофской жертвы или непременно совершится в силу нравственно-необходимого закона возглавления всего Агнцем», – подумайте, что за неверность и небрежность к человеколюбивой истине и ангелы, не устоявшие в ней, не пощажены, и Божий народ, изменивший ее духу ради мертвых форм, отринут, и православный некогда Запад, незаметно и постепенно терявший живую силу православия, оставлен наконец в заблуждениях неправославия (с. 31). С чего же взял критик взводить на меня вину такого неправомыслия, будто, по моему воззрению, обновление наше совершилось или совершается само собою, помимо нас самих, без нашего свободного и живого привития и упрочения в Христовом теле – Церкви, в силу только необходимого закона возглавления всего Агнцем?!