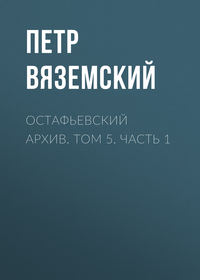полная версия
полная версияПереписка князя П.А.Вяземского с А.И.Тургеневым. 1824-1836
31-го. Москва.
Ты от Константина Булгакова получить 6500 рублей ассигнациями. Из них отдай Карамзину 4310 рублей; 80 червонцев золотом лучших и бумажками, сколько придется за лучшие по петербургскому настоящему курсу, Николаю Николаевичу Новосильцову при письме моем и спроси у него, как платить: золотом или ассигнациями. Не понимаю, как до сей поры залежался у меня этот долг. 1200 рублей дай Жуковскому; а рассчеты ему наши пришлю на следующей неделе. Что останется из денег, оставь пока у себя. Пока прощай! Я в расплатах по горло! Спроси у Северина, что я ему должен за парижские книги и заплати ему.
Если с Новосильцовым есть Журковский, то спроси, нет ли у него росписки моей в получении этих червонцев, которые он мне дал при отъезде моем в Москву из денег Николая Николаевича, и точно ли 80 должен я; или спроси о том у Гомзина.
643.
Тургенев князю Вяземскому.
5-го августа. [Черная Речка]. Утро.
Сию минуту получаю письмо твое, предваренный о нем Булгаковым вчера еще. Распрощался сейчас с Боратынским, которого отпустил в возвратный поход на финский север с надеждою и, проводив от себя Жуковского на Елагин остров к педагогической должности его, спешу отвечать тебе, но не знаю, успею ли послать письмо сегодня*
Приняв деньги от Б[улгакова], расплачусь со всеми и пришлю от всех росписки. Карамзина уведомил о четырех тысячах теперь же. С Нов[осильцовым] и с Гомзин[ым] повидаюсь, но Юрковского, кажется, с ними нет. Будь верен себе и нам и, расплачиваясь, не откладывай ничего на прихоти. В числе их – все несущественно нужное для пропитания себя и детей, Это одно может нас успокоить. Часто заглядываю в будущность твою и Карамзиных и ужасаюсь за детей; но дети Карамзина имеют великое наследство: «Историю», и не всегда же Главное училищ правление будет по экземпляру на губернию подписываться на славу отечества. Недоимку взнесут детям, и это спасет их от голодной смерти, а Русь от стыда; но ты еще не нажил из этого наследства. Наживай, а между тем сохрани развалины отцовского. Мысль о детях часто погружает Карамзина в ужасную грусть, смягчаемую только верою в Провидение, которая в нем сильна по-своему. Он чаще прежнего страшится за их будущее, особливо при беспорядках в его имении, с которого ничего не получает. Я предлагал ему туда ехать немедленно и при помощи дельного приятеля при вести в повиновение крестьян его, но он не принял моего предложения. Из Москвы, куда сбираюсь вскоре после 16-го сего месяца, может быть и слетаю в нижегородскую его деревню. Авось, мне удастся дать ему некоторое спокойствие, хотя за крестьян его, и заплатить безделицею часть неуплатимой благодарности, к дружбе его питаемой.
Кстати о нем. Статью свою из Гет[тингена] я писал, точно зная, что пишу против Карамзина. В ней виден школьник с жаром к добру, по школьник во всем пространстве этого слова. Знаешь ли, что заставило меня написать сию статью? Я в этом и Карамзину давно признался. В Геттингене узнал я о смерти брата Андрея. Несколько недель, не смотря на поездку верхом в Пирмонт, часто на заглушение пуншем, которого прежде пить не мог, сильного чувства горести, я приходил в отчаяние и в злобу на людей, имея тогда мало веры и много чувства. Желал приняться за чтение, и первая книга попалась мне журнал Карамзина и в нем пиеса его, помнится, прогулка по островам, в которой он одного пылкого молодого человека заставляет говорить, что всякое нежное чувство, всякая сильная горесть, которую мы почитаем вечною, не вечна в нашем сердце, что все утихает со временем. Эта психологическая истина возмутила мою душу и меня против Карамзина. Я видал в нем изверга, который не рожден любить вечно, и вздумал мстить ему после чем бы то ни было. Хотелось и выказать свету и батюшке свою ученость, и я написал эту пиесу, исполненную цитатов и напоминающую эпиграмму Шиллера:
Was wir heute gelernt, wollen wir morgen sclion lehren.Я образумился уже в Москве, снова познакомившись с Карамзиным и прочитав часть его «Истории». Из Москвы начал образумливать и других. то-есть, друга моего Андрея Кайсарова и Шлецера и навлек на себя негодование первого. Смерть брата имела еще и другое важное действие на мою душу: в первый раз я постигнул бессмертие души и душою поверил ему. Без сей веры я точно бы не перенес жизни без него. Еще и теперь сердце порывается на Невское кладбище.
За минуту перед тем, как получил письменный совет твой приняться за перо, Жуковский, ходя по нашей галлерее с сигаркою и приготовляя себя к важнейшему делу его утра, советовал мне также писать Мысли, а потом Записки, то-есть, Mémoires. Отвечать на этот совет грустно. После двадцатилетней моей жизни я еще не соберу свои обыкновенные мысли, не совладею с расслабленными силами ума и не могу читать одну книгу сряду и со вниманием не развлеченным. Душа даже спокойнее головы. Чувствую, что в умственных занятиях надобно иметь цель, а между тем в одно время читаю Клопштока и «Благонамереннаго», Bernardin de St.-Pierre и Гердера (в сих много сходства: «Harmonies de la Nature» всегда напоминали мне «Ideen zu einer Geschichte der Menschheit»), Benjamin Constant и графа Мейстера, Ламене и французский отчет о библейских обществах, классический в своем роде; часто голова горит, если не мыслями, то чем-то похожим на мысли и на чувства, а за перо приняться не могу, ибо для него нужна ясность души и тишина в сердце, которых у меня нет. Довольствуюсь выписками в двухгодичный album, который привезу показать тебе. До ноября подожду решения моей участи, а там туда, где буду часто горевать, а может быть и жалеть о прошедшем, но где скорее могут устроиться голова и затянуться, но не зажить, раны сердца.
Кстати о голове и сердце. Брат Сергей получил интересное письмо от Елены Григорьевны Пушкиной о Батюшкове. Она видела и долго, и много беседовала о нем с его доктором и с женою доктора. Вот, между прочим, что она пишет: «J'ai aussi été malade à Dresde: j'ai gardé le lit vingt quatre heures, ce qui est bien fort pour une santé aussi robuste que la mienne. Ce fut à la suite.de mon entrevue avec la soeur de Batuschkoff. J'avais trop pris sur moi, j'avais trop compté sur mes forces, et mes forces m'avaient abandonné… En allant aux eaux, je me suis arrêtée chez cette excellente mademoiselle Batuschkoff, à laquelle j'ai voué un attachement bien sincère. Sonneustein était en face. Je pouvais distinguer la croisée de la chambre, qu'occupe maintenant ce trop malheureux ami. Quel spectacle!.. Au milieu de tant de douleur, une phrase de ce pauvre Constantin, que sa soeur me répétait, a mis le comble à mes regret», и пр., и пр. Содержание фразы то, что она, Пушкина, поехала бы за ним в Крым, если бы детей не имела. Далее: «Le médecin de Sonnenstein donne beaucoup d'espérance. Sa femme, cette femme sublime, qui se dévoue aux soins de son mari, répond aussi de la prochaine guérison de ce pauvre Constantin. Elle est frappée de son esprit, qui perce malgré sa folie, de sa sensibilité, et surtout de cet organe si doux, qui fait supposer un coeur si aimant. Sa soeur a voulu que j'écrivisse à la femme du docteur et que je lui fisse le portrait du caractère de son frère. «Moi, me disait-elle, je n'en ai pas la force!» Je l'ai fait! Et mademoiselle Batuschkoff a été tellement frappée de la connaissance, que j'avais acquise de l'âme de notre cher malade, qu'elle m'avait démandé ce que j'avais fait pour le connaître aussi bien»… Рука устала, но хотелось бы и больше выписать.
Теперь к сумасшедшему другого рода. Ты уже знаешь, что Пушкин отставлен; ему велено жить в псковской деревне отца его под надзором Паулуччи. Это не по одному представлению графа Воронцова, а по другому делу, о котором скажу после на словах. О приезде его туда еще ничего не слышно, и не знаю еще приехал ли?
Желал бы теперь обратиться к твоему проекту служить в Одессе. На какое жалованье ты считать можешь? И уживешься ли ты там? Не проживешь ли. остальное? Знаешь ли ты Воронцова? Могла ли узнать его княгиня? Не увлекается ли она в сем случае приятностию сей жизни и тамошнего общества? Но надежно ли оно? И на долго ли? Жизнь дороже московской, то-есть, в ваших отношениях к Москве, по соседству Остафьева. Я не успел этого порядочно обдумать, хотя давно знаю о вашем проекте. Первая мысль, при первых соображениях и при знании Воронцова (лучше, нежели ты и жена твоя его знаете), была совершенно противна сему проекту. Карамзины и Сергей – также.
Жуковский не успел прочесть твоего письма, но велел на всякий случай поцеловать тебя. Прочтем тебя за обедом на закуску.
Княжна Алина точно прелестная и по уму, и по всему. Дай Бог уцелеть ей во всем и сохранить себя для милого будущего, а не для постылого. Страшусь рассчетов Фортуны, то-есть, её любителей; а она бы заслуживала быть счастливою, хотя на минуту, и в сей жизни.
Benjamin Constant теперь у Карамзина. Скоро пришлю, то-есть, первый том, ибо другие два еще не вышли. О смерти Байрона возьму брошюры у графа Строгонова и тебе пришлю по первой почте. Между тем вот несколько стихов из пиесы слепого Козлова:
Среди Альбиона туманных холмов,……………………………………….В наследственном замке, под тенью дубов,Певец возрастал вдохновенный.И царская кровь в его жилах текла;……………………………………….Но юноша гордый, прелестный,Высокого сана светлее душой,Казну его знают вдова с сиротой,И глас его арфы – чудесный.(В оригинале звуки, но глас, кажется, лучше).
……………………………………….Встревожен дух юный; без горя печальЗа призраком дальным влечет его в даль, –И волны под ним зашумели;Он арфу хватает дрожащей рукой,Он жмет ее к сердцу со рьяной тоской:Таинственно струны звенели.(Смысл последних стихов для меня также тайна).
Скитался он долго в восточных краяхИ чудную славил природу;Под радостным небом, в душистых лесахОн пел угнетенных свободу.Любовных страданий палящий певец,Он высказал сердцу все тайны сердец,Все буйных страстей упоенья;То радугой блещет, то в мраке ночномСзывает он тени волшебным жезлом,И грозно-прелестны виденья.……………………………………….…Песни……………Но мрака с чела не согнали,Уныло он смотрит на свет и людей;Он бурно жизнь отжил весною своей;Надеждам он верить страшится;Дум тяжких, глубоких в нем видны черты;Кипучая бездна огни и мечты,Душа его с горем дружится.……………………………………….О нем и о жене его, то-есть, о ссоре с нею и о прежнем их согласии:
Так светлые воды красуясь текутИ ясность небес отражают;Но, встретя вдруг камень, мутятся, ревут……………………………………….И шумно свой ток разделяют.И снова он мчится по грозным волнам;Он бросил магнит путеводный,С убитой душой но лесам, по горам,Скитаясь, как странник безродный.Он смотрит, он внемлет, как вихри свистят,Как молнии вьются, утесы трещат,Как громы в горах умирают.«О вихри, о громы, скажите вы мне:«В какой же высокой, безвестной стране«Душевные бури стихают?»……………………………………….……………………………………….И слава воскресла, и вспыхнула месть,Кровавое зарево рдеет.Цари равнодушны, – он прежде царейС мечами, с казною и с арфой своейЛетит довершать избавленье;Он там, он поддержит в борьбе роковойВеликое дело великой душой –Святое Эллады спасенье.……………………………………….Доволен ли? То-есть, моею рукою, если не стихами; но и в стихах есть жар и сила. Выписал бы несколько стихов и из «Звезды» Боратынского, но боюсь, чтобы письмо мое не перебило у моего соседа Греча. Вот одна строфа:
И с милой звездочки своейНе сводим мы очес,И провожаем мы ееНа небо и с небес.Я просил его свести со второго стиха очеса и заменить их очами, но жаль прекрасных небес.
Я, верно, к концу августа буду в Москве и проживу, вероятно, до возвращения государя в Петербург, то-есть, до начала октября (государь возвратится к 22-му). Я бы желал поскитаться в окрестностях Московской губернии, например, в Нижегородской ярмарке, и побывать в деревне Карамзина.
«Урику» читал: c'est joli, mais c'est peu de chose. Кюхельбекера читал, и с досадою; утешил он меня только певинностью своего рассказа о разговоре его с Тиком о Новалисе. Он признался ему, что не понял Новалиса, а Тик добродушно отвечал ему: «А я понял». Довольно для Кюхельбекера, но зачем же признаваться в глупости? Для этого довольно и «Мнемозины». Недозрелый Шиллер и классический Шихматов! Первый эпитет принадлежит не Кюхельбекеру, а Тику. C'est à peu près son idée sur Schiller, потому что он гетенианец. Давно такого враля не бывало. Это – Бестужев (младший), побывавший в ученой и многомыслящей Германии и подслушавший, но не понявший её литераторов. Впрочем, и в Бестужеве есть талант, но старший брат его пишет лучше.
Николай из Карлсбада снова отправился в Дрездеп посоветоваться с Крейсигом и возвратится опять в Карлсбад, а оттуда в Италию. Надежда к излечению есть, но идет оно, как и всегда, туго.
Крылов купался в ревельском море и перепугал рыб своею массою и, вероятно, еще больше своим аппетитом. Новые басни его прелестны.
Что делает Иван Иванович? Скажи ему мое душевное почитание. Если бы письмо это было не такое беспутное, то можно бы его прочесть ему для выписок из чужих писем- Как хочешь. Софья Безобразова здесь.
644.
Тургенев князю Вяземскому.
8-го августа. [Черная Речка].
Вчера получил деньги от Бул[гакова] и дал ему росписку. Был у Новос[ильцова] и застал его садящимся в карету, по он прочел письмо; я сказал ему, что деньги у меня готовы и червонцами лучшими, и ассигнациями. Он и забыл о них; поручил Гомзину принять, и я досылаю к нему их сегодня по 11 р. 80 к. червонец, по курсу. Получу росписку и тебе доставлю. Юрковского нет. О росписке сказал Байкову и Гомзину. Если есть, то пришлют из Варшавы. Жуковскому 1200 рублей отдал вчера же, но он не знает, за что эти деньги. От Строгонова ответа о брошюрах не получил. Пришлю, если пришлет. У Сен-Флорана нет ничего о Байроне. а будет скоро одна, вероятно та же, что и у Строгонова.
Посылаю элегию Лобанова; а напечатанные стихи в «Сыне Отечестве» не его, а Плетнева. Впрочем, и вот есть и в этих. Жуковский вчера прочел письмо твое. Северипа спрашивал о книгах, но еще не получил. Заплачу тотчас, как скоро уведомит. Карамзин был нездоров маленькою лихорадкою, но теперь хорошо. Прости! Какое интересное письмо!
Сию минуту получаю письмо от брата Николая. Он видел Батюшкова. Вот слова брата: «Войдя в ворота, первый, попавшийся мне на встречу, был Батюшков: лицо мрачное; он шел по другой стороне и меня не узнал. Лекарь после сказал мне, что я хорошо сделал, и не свел меня с ним. Он говорит, что теперь ему немного лучше. Прежде он воображал, что он в тюрьме, но Ханыков написал ему, что он в Maison de sauté, и он стал спокойнее. Был у его сестры; она его еще не видала, но лекарь надеется их скоро свесть». Распечатал нарочно письмо к тебе, чтобы вписать это. Брат возвратится уже не в Карлсбад, а в Мариенбад пить воды. Карлсбадские худо действовали, но доктор Крейсиг обещает выздоровление после второго курса и после винограда в Италии. В третий раз распечатал и две брошюры от Строгонова посылаю; третью пришлю после. Возврати немедленно по прочтении.
645.
Тургенев князю Вяземскому.
12-го августа. [Черная Речка].
Деньги Нов[осильцову] отданы, и вот росписка. Северин отвечал мне, что на днях будет в Москве и сам с тобою разочтется. Карамзину деньги отданы. Я буду в Москве к 30-му августа. Вероятно, выеду в дилижансе 23-го отсюда.
Вот еще брошюра о Байроне, Мура: это лучшая. Возврати по прочтении. Еду сейчас в Царское Село.
Третьего дня обедали у вас на Червой Речке Жуковский, Крылов, Гведич, СабурсвоС, Дашков, Греч, граф Мейстер и прочие. Козлов (слепой) и Крылов читал свои новые басни. Есть между ними прелестные; скоро выдут.
Теперь (ночь) кончилась серенада, которую давал граф Бобринский на Червой Речке, и началась мазурка; а я ложусь спать, чтобы завтра поспеть к Карамзиным. Прости!
646.
Тургенев князю Вяземскому.
13-го августа. [Черная Речка].
Уведомь меня с первою почтою, где ты живешь в Москве, то-есть, где твой дом, на какой улице и под каким номером, дабы мне можно било в случае, если я приеду в дилижансе, придти к тебе прежде, нежели я пойду к матушке; ибо если я приеду ночью, то пойду к ней по-утру, а ночь проведу у тебя. Если же днем, то прямо к ней. Да напиши, если знаешь, и квартиру матушки, то-есть, на какой улице и чей дом. Да поскорее, ибо только остается десять дней до моего отъезда, или оставь записку в конторе дилижансов.
Вчера были мы в Царском Селе, и Северин читал нам прекрасный ответ Лавинья Ламартину. Он едет отсюда 19-го в Москву, а там в Пензу.
На обороте: Его сиятельству князю Петру Андреевичу Вяземскому, в Москве.
Приписка А. Я. Булгакова.
Изменившему вчера итальянской опере.
647.
Князь Вяземский Тургеневу.
13-го августа. Остафьево.
Благодарю сердечно за доброе письмище от 5-го августа и спасибо за донесение о текущих делах моих от 8-го. Сказал ли что Новосильцов обо мне при этом случае? Говорил ли ты с ним о моей варшавской катастрофе, и можно ли еще говорить с ним о чем-нибудь путном? Если можно, то при случае заведи разговор и побереги его в памяти своей до нашего свидания, потому что я все еще истинного зерна загадки не раскусил. Я Новосильцова люблю; его Польша доехала, но под дрожжами было у него что-то такое хорошего. Я точно приехал к его разрушению: при мне начал он расклеиваться. Впрочем, трудно было уцелеть на его месте; надобно было оставить место; но, остававшись на нем, должно было неминуемо рости в землю и заживо погребстись. Так и было! Я никогда не забуду, что у него узнал я, что такое истинный ростбиф и истинный рейнвейн Иоаннисберга, который поганят теперь недостойные рыла Меттерниха и Татищева. Легкомысленные и неблагодарные желудки не поймут меня, но ты оценишь эту черту признательности. Варшаву также я люблю: в ней родилась и погасла эпоха деятельности моего ума. Все интеллектуальные поры мои были растворены; я точно жид душою и умом. Теперь половина меня заглохла и отнялась. Я не умею жить посреди смерти: мне должно заимствовать жизнь. А здесь где ее взять тому, у кого нет в себе ключа живой воды? Мне скажут: Карамзин! Конечно, он всех живущее у нас; он один истинно живущий; но так ли бы он жил еще в другой сфере, под другими градусами? Умнейшие из нас, дельнейшие из нас, более или менее, а все вывихнуты: у кого рука, у кого язык, у кого душа, у кого голова в лубках.
Твое письмище точно и мне дает мысль, что ты должен бы писать свои воспоминания. Я всегда замечал, что твое перо умеет залучить к себе и мысль, и чувства твои удачнее языка, на котором они не держутся. Ты такой обжора, что глотаешь и мысли свои, и чувства; шутки в сторону: ты редко договариваешь. Впрочем, и со мною то же: перо развязывает у меня язык ума и сердца. Причина этому, вероятно, та, что мы не имеем привычки говорить. И где могли бы мы наторить свой язык? Арзамас рассеян по лицу земли, или, правильнее, но – земли, а в обществах халдейских разве может откликнуться ум души?
Последнее письмо жены моей наполнено сетованиями о жребии несчастного Пушкина. Он от неё отправился в свою ссылку; она оплакивает его, как брата. Они до сей поры не знают причины его несчастья. Как можно такими крутыми мерами поддразнивать и вызывать отчаяние человека! Кто творец этого бесчеловечного убийства? Или не убийство – заточить пылкого, кипучего юношу в деревне русской? Правительство верно было обольщено ложными сплетнями. Да и что такое за наказание за вины, которые не подходят ни под какое право? Неужели в столицах нет людей более виновных Пушкина? Сколько вижу из них обрызганных грязью и кровью! А тут за необдуманное слово, за неосторожный стих предают человека на жертву. Это напоминает басню «Мор зверей». Только там глупость. в виде быка, платит за чужие грехи, а здесь – ум и дарование Да и постигают ли те, которые вовлекли власть в эту меру, что есть ссылка в деревне на Руси? Должно точно быть богатырем духовным, чтобы устоять против этой пытки. Страшусь за Пушкина! В его лета, с его душою, которая также кипучая бездна огня (прекрасное выражение Козлова о Бейроне), нельзя надеяться, чтобы одно занятие, одна деятельность мыслей удовольствовали бы его. Тут поневоле примешься за твое геттингенское лекарство: не писать против Карамзина, а пить пунш. Признаюсь, я не иначе смотрю на ссылку Пушкина, как на coup de grâce, что нанесли ему. Не предвижу для него исхода из этой бездны. Неужели не могли вы отвлечь этот удар? Да зачем не позволит ему ехать в чужие краи? Издание его сочинений окупит будущее его на несколько лет. Скажите, ради Бога, как дубине Петра Великого, которая не сошла с ним во гроб, бояться прозы и стишков какого-нибудь молокососа? Никакие вирши (tout vers qu'ils sont) не проточат её! Она, православная матушка наша, зеленеет и дебилеет себе так, что любо! Хоть приди Орфей возмутительных песней, так никто с места не тронется! Как правительству этого не знать? Как ему не чувствовать своей силы? Все поэты, хоть будь они тризевные, надсадят себе горло, а никому на уши ничего не напоют. Мне кажется, власти у нас так же смешно отгрызаться, как нашему брату – шавке смешно свалить зубы. Во Франции, в других землях, – дело другое, on en vient aux mains avec l'autorité; в подобной схватке все увечье! У нас необозримое, мало того что непроходимое, расстояние разделяет власть от нас. Elle est non seulement inviolable de droit, comme partout, mais elle l'est aussi de fait. De sa nature elle est hors de toute atteinte. Я уверен, что если государю представить это дело в том виде, в каком я его вижу, то пленение Пушкина тотчас бы разрешилось. Les Titans n'ont pas chansonné les dieux, quand ils ont voulu les chasser du ciel.
Эпиграмма может пронять нашего брата, как ни будь он окован в звезды и препоясан лентами, но «сатиры и эпиграммы должны преклонить колена» (как говорил Максим Невзоров в «Друге Юношества» о наших эпиграммах на Боброва) перед неуязвляемостью власти. У меня в голове проскакивает глупая шутка, но так и быть: вот она. Я вспомнил о неуязвляемости Ахиллеса. Про него можно сказать, что душа у него была в пятках, даром, что он был не трус. Сообщи это Екатерине Николаевне, музе моих глупостей. Какой скачек от политической метафизики до лубочной шутки! Да, впрочем, пора мне было соскочить: я ходил по скользкому месту,
Я видел Волконских, мать и дочь, и с первого раза полюбил их сердечно. Мать везет тебе книгу. Завтра хочу к ним ехать в Суханово и повезу твои брошюры. Я что-то сомневаюсь в законности произведения Moor'а: я думаю, это парижский подкидыш. Стихи Masson также неважны; у меня есть ответ Casimir La vigne Ламартину гораздо превосходнейший. Волконская дала мне читать Пукевиля «La régénération de la Grèce». Это эпопея, то-есть, по содержанию своему, а не по силе эпопейщика, хотя есть в нем жар и живопись. Что говорит об этой книге Дашков? Можно ли во всем верить Пукевилю? Жаль, что должен прочесть его наскоро: голова кружится от собственных имен людей, городов, чинов. Что за диавол этот Али-паша? Есть ли перевод надгробной речи патриарху, убитому в Царьграде, говоренной в Одессе? Дай мне ее!
Лобанова элегия пахнет перстоньком. В восьми стихах Плетнева во сто раз более поэзии. Читал ли ты глупое известие Греча об этой элегии в 31-м номере? Я люблю, что Лобанов в утешение Шувалову говорит ему: стенаю и я! пришли «Звезду» Боратынского! И конечно: очес – не хорошо. Да что же делать с нашим языком, может быть, поэтическим, но вовсе не стихотворческим. Русскими стихами (то-есть, с рифмами) не может изъясняться свободно ни ум, ни душа. Вот отчего все поэты наши детски лепетали. Озабоченные побеждением трудностей, мы не даем воли ни мыслям, ни чувствам Связанный богатырь не может действовать мечем. Неужели Дмитриев не во сто раз умнее своих стихов? Пушкин, Жуковский, Батюшков в тайнике души не гораздо сочнее, плодовитее, чем в произрастениях своих? –
Что скажешь ты он этом письме? Оно превосходно! Это пиндарическая ода! Чего хочешь, того просишь. Это в своем роде Child-Harold, «volcan tari qui ne lanèait plus que des laves brulantes ou des cendres amères» (Thomas Moore). Ан, я и в самом деле volcan tari!
Ты разве не понял письма моего о службе? Я точно согласен с тобою. Где мне служить? Я говорил тебе, что мог бы служить за деньги, но что знаю, что денег мне не дадут, да и не за что. Ты разве забыл, что я узнал Воронцова летом в Петербурге? Такое знакомство один раз навсегда. Если не было бы поздно, то я выписал бы тебе из письма жены то, что относится до образа жизни в Одессе. О веселиях и приятностях общежития и в помине нет; напротив, она мне настоятельно говорит, чтобы, ехавши туда, отказался бы я от помышления о светских развлечениях, которых там нет. Но там есть солнце и море, а душа моя их жаждет. Может быть, там она оживет. Москва меня сушит: я не должен в ней жить! Я не властен в ней жить! Я не буду в ней жить! А, кроме Москвы и юга, я на Руси не знаю доступного угла. Итак, ты скоро сюда будешь. Радуюсь заранее. Куда ты это собираешься на Макарьевскую ярмонку из Москвы? Разве для тебя сызнова начнут? Ведь это не обедня. Да и обедня то уже для тебя отошла. Прости, мой милый расстрига! Покажи это письмо Жуковскому; 1200 рублей – за виды Павловского и за проданные экземпляры его сочинений: я тебе толковито писал. Счеты ему пришлю после.