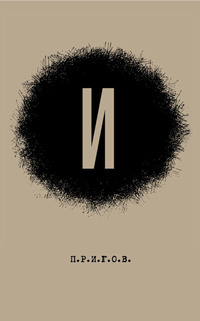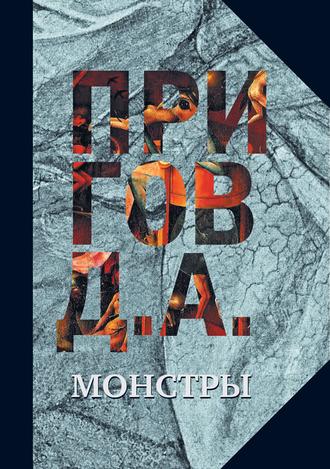
Полная версия
Монстры
Очевидно, что Пригов был неплохо знаком с популярными и обсуждаемыми в среде московской и ленинградской интеллигенции трактатами Псевдо-Дионисия Ареопагита «О Божественных именах» и «О небесной иерархии», а также с патристикой, апофатикой и теорией исихазма, что отразилось в его цикле «Апофатическая катафатика» (1991).
Апофатическая катафатика – емкая и лаконичная формула, раскрывающая парадоксальную диалектичность приговской теологии. Зоны священного, трепетного молчания у Пригова быстро заполняются неудержимым спонтанным «речеверчением», а возвышенная и патетическая речь неумолимо переходит в бессвязное бормотание. См. фрагмент из «Азбуки поминальной» № 57: «Ка-ааааа-занова убиеннный! / Лака-а-а-ааааааа-оба убиеннный! / Малакаа-а-ааааааа-нин убиеннный и сыыын его убиеееннныыый», а также из «Оленей азбуки» № 61: «Я цепляю пальцами звезду: Ю-ююю, из вод пальцев моих фонтан небесный: Ю-ююю! словно шелк синий, холодный и блестящий: Ю-ююю! Уйди! Вернись! Ю-юююююююю – еле слышно – Уйди! Вернись! вернись! Ю-ююююю!»
Сборник-книжечку «Апофатическая катафатика» (в настоящем издании – раздел «Бог, чудо, чудище») открывает стихотворение, которое содержит отсылки и к теории «общего дела» Николая Федорова (предполагающей коллективное воскрешение отцов путем космической экспансии всего человечества), и к предложенной Оригеном еретической идее «апокастасиса» – возрождения всего тварного мира в состоянии до грехопадения, в результате чего все зло будет искуплено, а все живущее обретет спасение. Процитируем этот текст целиком:
Вот и отцов мы воскресили В духовном смысле лишь, увы Но и то! Отцы! Отцы! В чем ваша сила? — А в том, что мы уже мертвы И не подлежим изменениям согласно желаниям или нежеланиям нашего гипотетически-амбивалентного воскрешения или невоскрешения! — Так неужто ль это сила? — Это неместная сила, превосходящая сосуд вашего вмещения!Лейтмотив коллективного умирания, воскрешения, бессмертия и бестелесного, бескачественного сосуществования после смерти в катастрофическом разрыве между историей и безвременьем является сквозным и даже доминантным для эсхатологической поэтики Пригова. Этот мотив возникает уже в раннем стихотворении, написанном в 1983-м году и включенном в цикл «Звери, люди и сила небесная» (в настоящем издании – раздел «Бог, чудо, чудище»):
А что нам смерть, когда Небесной Силой Мы от нее охранены надежно И даже в виде подвига и смерти Нам с нею все равно не умереть Ну, там умрем как греки, как евреи Как русские, ну – вымрем как народы Физически, психически, соцьяльно Как хомо сапиенс и как перво-Адамы И будем налегке торжествоватьТаким образом, в теологическом проекте Пригова не только быт и бытие слипаются в одно неразличимое, недифференцируемое единство, но вместе с ними также история и мифическое, время и вечность, смерть и бессмертие, Божественное и человеческое. В поэтическом проекте Пригова осуществляется полномасштабная отмена Истории и радикальный подрыв символического порядка, что перекликается с понятием «актуального настоящего» (Jetztzeit), разрабатываемым в мессианском марксизме Вальтера Беньямина. Собственно, антиисторизм Пригова – отдельная богатая тема, требующая подробного осмысления в сопоставлении с текстами его коллег-концептуалистов, а также с более обширным контекстом русской поэзии 1960 – 2000-х годов. Причем непреодолимое апокалиптическое разрушение символического порядка (а один из циклов Пригова 1983 года так и озаглавлен: «Апокалиптические видения внутри стиха») наделено позитивной оценкой, оно одаряет «неместной силой» и позволяет «налегке торжествовать», то есть приводит в давно искомое состояние высшего гармонического и космического равновесия.
4В беседе с Куликом Пригов отвергает диалектический синтез противоположностей ради достижения универсального равновесия, пропорционального соотношения противоположностей, достигаемого путем столкновения идейных и метафизических полюсов: «…в любой религии, в человеке борется Бог и черт… везде происходит какое-то взаимоотношение двух полюсов, попытка найти если не синтез, то как бы некое равновесное состояние». Теологический проект Пригова предполагает процесс обретения универсального равновесия путем упразднения конститутивных различий между трансцендентным и повседневным, Божественным и дьявольским, человеческим и монструозным. Иными словами, чтобы вернуться обратно к обычному ходу вещей и упорядоченному строю бытия, необходимо пройти через промежуточную временную стадию всемирного и планетарного уничтожения всего и вся. Именно на этом принципе обретения гармонии через гипертрофию космического хаоса (и животного ужаса) построены нарративные схемы приговских романов, в том числе «Живите в Москве» и «Только моя Япония».
Манифестарный жест стирания границы между трансцендентным и обыденным одновременно актуализирует разделение мира на сферы человеческого – и нечеловеческого (таинственного и неописуемого). Когда в беседе с Куликом Пригов говорит об «ощущении наличествующего зачеловеческого мира, который в человеческом мире просто сложно объяснить», он указывает на необъяснимую и фатальную близость трансцендентного, на то, что «зачеловеческий» мир существует имманентно, здесь и теперь, рядом с нами. Когда Лена Силард, сопоставляя поэтику Пригова с теургией Вячеслава Иванова и теософскими построениями Андрея Белова, пишет, что у Пригова «слово «о нашем» мире произносится не из-за географической границы, не из сферы иноязычия, а из сферы потустороннего, которую, впрочем, Пригов выбирает в качестве «места поэтического голоса» столь же часто и в не менее разнообразных манифестациях, чем Андрей Белый», следует учитывать, что сфера потустороннего (зачеловеческого) у Пригова приблизительно совпадает с контурами нашего материального мира, иногда превосходя его, иногда свертываясь в его пределах. Иными словами, предлагаемая Приговым теология после религии, после трансценденции и после апокалипсиса предполагает, что мир чудесного и чудовищного располагается настолько рядом с человеком, настолько захлестывает его, что нередко игнорируется им подобно заурядному бытовому фону.
5С точки зрения хронологии становление теологического проекта Пригова можно подразделить (впрочем, весьма условно и с большими оговорками) на два этапа – пародийно-ироничный и мистико-визионерский, хотя, безусловно, проект этот отличался крайним эклектизмом и нарочитой непоследовательностью. Первый этап приходится на 1970 – 1980-е годы, время соц-артистской игры с риторикой партийного официоза и тиражированными клише советской идеологии. Этот этап знаменуется такими текстами, как «25 Божеских разговоров» (1982), «Звери, люди и сила небесная» (1983), «Апокалиптические видения внутри стиха» (1983), «Воинств небесных чудных размеры» (1984), «Силы человеческие неземные» (1985) и др., и характеризуется пристальным вниманием автора к религиозным устремлениям и тенденциям, свойственным гуманитарной и научно-технической интеллигенции. Одна из таких противоречивых тенденций основывалась на массовом стремлении совместить мистико-эзотерические доктрины, оккультизм, гностицизм, астрологию, парасенсорику, буддизм и индуизм с передовым на тот момент «фронтом» естественно-научного знания, с открытиями в области квантовой физики, молекулярной механики, термодинамики, а также семиотики и нейролингвистики.
Подобный синкретизм сопровождался, как правило, логико-рациональными и одновременно богословскими обоснованиями – репертуар из высказываний Планка, Пуанкаре и Бора, Хайдеггера, Гадамера и Витгенштейна, Тертуллиана, Августина и Фомы Аквинского нередко составлял мозаичный понятийный коллаж. Что позволило Пригову изобрести собственный парафилософский жанр «предуведомлений», использовав этот синкретизм в качестве конструктивного фактора, подвергнув его саркастичному высмеиванию и одновременно превратив его в познавательный метод. Как бы «высокий» жанр гиперусложненного философско-религиозного изыскания в поэтике Пригова середины 1980-х обретает зеркального двойника в виде как бы «низкого» бытового, банального рассуждения. На таком принципе двойничества «высокого-низкого» построены нумерологические циклы «40 банальных рассуждений на банальные темы» или «20 доказательств»; так, в «Доказательстве верой» Пригов пишет: «Коли этому не быть / Значит этому не быть / Значит так тому и быть / Значит так оно и есть».
Михаил Эпштейн выделяет у Пригова два антагонистичных типа (квази)религиозного сознания: разорванное сознание, принадлежащее человеку культуры, интеллигенту-одиночке, онтологически несчастному, задающему проклятые вопросы и полностью запутавшемуся в загадках бытия, и сорванное сознание, которым наделен человек из народа, эйфорически счастливый и оптимистичный, знающий разгадки всех бытийственных проблем. Говоря, что «нахождение повсюду «одной и той же сущности» и превращает нашу «разорванную способность» в сорванное сознание, поскольку форсирует недостающее единство», Эпштейн показывает, что дихотомия разорванного и сорванного сознания снимается в самом акте демиургического творения, в котором Поэт подражает Божественному волюнтаризму (и пародирует его непредсказуемость). Эффект (порою курьезный и комический) неистового религиозного поиска истины у Пригова возникает в результате совмещения нескольких социально-культурных сознаний. Но руководит этим смешением не описанный Бахтиным момент карнавальной амбивалентности, а скорее дадаистский и абсурдистский принцип алеаторики, случайной выборки той или иной социальной речи или ее огласовки (в позднем авангарде этот прием «слипания» социальных голосов практиковали обэриуты, главным образом Даниил Хармс и Александр Введенский).
Другая тенденция, представленная в приговских текстах, состоит в том, что богатое энциклопедическое наследие Серебряного века, русского религиозного ренессанса, философии соборности (В. Соловьев, С. Булгаков и С. Франк) и экзистенциального персонализма (Н. Бердяев, Л. Шестов) в позднесоветскую эпоху прочитывается в среде интеллигенции некритически, без анализа историко-культурных контекстов и генетических связей с немецкой идеалистической философией. Изобилующие цитатами и полемикой с предшествующими метафизическими системами труды, например, П. Флоренского, Н. Лосского, В. Эрна или С. Булгакова нередко воспринимаются как последняя инстанция истины, как нечто, принимаемое на веру безотносительно и абсолютно. Такой феномен, вызванный, в первую очередь, полузапретным распространением богоискательских сочинений в самиздатовских машинописных рукописях, привел к возникновению сложного конгломерата (около)религиозных мифов. Вдумчивой ревизией (не без пародийной травестии) этих мифов Пригов сосредоточенно занимается в своем творчестве 1970 – 1980-х годов.
В пьесе «Место Бога», датированной, предположительно, 1973-м годом, Пригов всесторонне рассматривает мифологию свободы воли и свободного выбора, искушения властью и ужаса богооставленности, аскетического отшельничества и земных наслаждений, мифологию, в условиях закрытого тоталитарного общества стремящуюся стать суммой моральных критериев или догматов. Видимо, текстом-предшественником этой пьесы является книга Н. Бердяева «Миросозерцание Достоевского», доступная в то время благодаря самиздатовским спискам или парижской републикации 1968 года в издательстве «YMKA-Press». Бердяев говорит, что «…злo имeeт глyбиннyю, дyxoвнyю пpиpoдy. Пoлe битвы Бoгa и дьявoлa oчeнь глyбoкo зaлoжeнo в чeлoвeчecкoй пpиpoдe. Дocтoeвcкoмy oткpывaлocь тpaгичecкoe пpoтивopeчиe нe в тoй пcиxичecкoй cфepe, в кoтоpoй вce eгo видят, a в бытийcтвeннoй бeзднe. Tpaгeдия пoляpнocти yxoдит кaк бы в caмyю глyбь бoжecтвeннoй жизни».
Пригов косвенно цитирует и одновременно лишает героичности бердяевскую метафизику зла, показывая ее взаимосвязь с позднесоветской риторикой «двойных стандартов» и тотального лицемерия: «Ты знаешь, у нас и в Бога даже можно верить. Ну, не повсеместно и не в буквальном смысле, а опосредованно, если это не мешает твоей основной работе. Ты понимаешь, жизнь пересиливает, пережевывает все». В концовке пьесы отшельник утверждает «невидимое присутствие Бога в любой точке», то есть сама фигура Бога и оказывается зоной невозможного и неразрешимого (и подчас идеологически спущенного сверху) этико-религиозного выбора.
Кроме того, Пригов переосмысливает важную для русского модернизма мифологему мученического пути и страдательного жребия, уготованного творцу ради искупления грехов и очищения человечества от скверны. В 1973 году Пригов, будучи скульптором по образованию, лепит свой бюст с терновым венцом, исследуя, с одной стороны, христологические аспекты самоидентификации художника, а с другой – границы или безграничность экстремального телесного опыта (за которым может открыться либо мистическая глубина откровения, либо «пустотный канон» концептуалистской редукции). В визуальных работах Пригова задействована мифологема всевидящего и надзирающего Божественного ока, проникающего в сущность вещей и паноптически наблюдающего все людские дела, мысли и поступки. В работе «Боже» второй половины 1970-х Божественное око представлено в виде цветных концентрических кругов, отсылающих к эстетике дадаизма, в частности к «Механическому балету» Фернана Леже, а в цикле «Фантомы инсталляций» изображение Божественного глаза напрямую заимствовано из традиции православной иконописи.
В ранних текстах Пригова Бог уподобляется модернистскому автору-творцу. С одной стороны, он наделен неоспоримым всесилием и циничным всеведением по отношению к своим героям. С другой, он заключен в темницу собственного произведения и превращен в одного из беспрекословно управляемых персонажей, то ли в медиума-сомнамбулу, то ли в послушную марионетку, управляемую по прихоти чьей-то магической воли. В цикле «25 Божеских разговоров» (см. раздел «Бог, чудо, чудище») Бог предстает то скептическим, приземленным наблюдателем и надсмотрщиком за делами человеческими:
Вместо чтобы страдать и метаться Лучше в грядочках было б копаться Посидишь, покопаешь и снова Поглядишь там на солнце-луну А Бог выглянет, скажет сурово Значит, садик копаешь? – ну-ну —то всеприемлющим и милосердным наставником, говорящим набоковской девочке «Живи», а самоубийце «Послушай, эй! Смирись!», то заботливым опекуном («Бог наклонится и спросит: / Что, родимый, подустал? / – Да, нет, ничего»), то ленивым и безучастным соглядатаем («– Государство, что ль, поменять / – Подумает Бог / Но не станет»), то соперником или сотрудником поэта в его титанических и демиургических усилиях («25-й Божеский разговор»). Бог в ранних текстах Пригова нередко гипертрофирован в размерах, огромен и необъятен, иногда нематериален и сведен к акустической иллюзии, голосу из репродуктора, а подчас до неразличимости совпадает со своим протагонистом – Дьяволом. В пьесе «Место Бога» соблазняющий отшельника бес Легион так описывает гигантские размеры «Самого главного» (видимо, симбиоз Бога и Дьявола): «Наш самый главный сюда сунуться не может. Он занял бы слишком много места. Я же тебе говорил, что это как электричество.» А в «24-м Божеском разговоре» Пригов переводит религиозный образ Благой вести в масштаб необозримости и необъятности, связанный с переживанием запредельного:
Пусть человек какой ни есть Но я один здесь в огромном пространстве И как-то необыкновенно страстно И это вдруг почувствовал как весть Святую в оперенье крыл И следом голос был Ты здесь один на все огромное пространство – Я это чую – необыкновенно страстно Я отвечалВ ранних текстах Пригова Бог, как правило, превышает человека или соразмерен ему, воплощаясь в пародийно-возвышенном облике земной государственной власти вроде Милицанера. Бог пантеистичен (он распределен в каждой сингулярной точке), тотемичен (нередко он совпадает с официальными иконами советской идеологии, ее почитаемыми символами или идолами), но самое главное, он диалогичен, с ним возможно вести серьезный или насмешливый разговор. Бог пребывает внутри определенного, хотя и подвергнутого пародийной перепроверке дискурса, – дискурса власти, знания или веры.
6На рубеже 1980 – 1990-х годов в поэтическом проекте Пригова – возможно, под влиянием смены социально-политических формаций – происходит быстрое и радикальное тематическое смещение: от свойственной соцарту игры с идеологическими штампами (или их концептуалистской редукции) к подробному описанию того, что не может быть концептуализировано, что ускользает от любых усилий по разоблачению претендующего на гегемонию властного языка. Одним из центральных персонажей-объектов приговского проекта делается не многажды тиражируемый идеологический стереотип, а нечто иное, непостижимое и запредельное. По сути, это нередуцируемый элемент реальности, «сухой остаток» идеологии, не пристегиваемый к продиктованным нормам символического порядка, то, что Жак Лакан называет «объект маленькое а» и что своим присутствием указывает на непреодолимый разрыв внутри субъективности.
В одном из циклов 1990 года (с моей точки зрения, пороговом) этот пугающий «антиобъект» обретает определенное, хотя иносказательное имя. Это «капелька крови» – «капелька крови на лапке котенка», «капелька крови, прикрытая бархатной тряпочкой», «капелька крови за ушком плюшевого медвежонка», «капелька крови на чудотворной иконе», «капелька крови на капельке крови» и т. д. (см. раздел «Слово число, чудовище»), Это и есть просачивающаяся в нашу физическую реальность частица запредельного ужаса, которая образует внутри реальности зияние или воронку, и уже вокруг этой воронки крутится «абсорбирующая среда» текста. «Капелька крови», этот жуткий частичный объект, функционирует не в сфере Божественного, ангелического или инфернального, но в области неуправляемо чудовищного. Но именно эта область в поздней поэтике Пригова осуществляет посредничество между человеческим и находящимся рядом потусторонним.
Понятно, что теологический проект Пригова также не остался без реформирования: его, условно говоря, второй этап, пришедшийся на 1990 – 2000-е, ознаменован переносом внимания с развенчания религиозных представлений, бытующих в среде либеральной советской интеллигенции, на мистико-визионерские практики. Практики эти связаны с обнаружением и описанием топографии неведомого, а также выявлением его параметров непостижимости. Ключевыми текстами этого этапа могут быть названы «Неодуховные реминисценции» (1990), «Апофатическая катафатика» (1991), «Предшествие постсвятости» (1992), «Холостенания» (1996), «Кабалистические штудии» (1997), «Бегунья» (2001) и др.
В этих циклах Пригова Божественное присутствие неопределимо и неназываемо, оно недискурсивно и неподвластно предписанным гносеологическим критериям. В сфере поэтического языка Пригов проделывает революционную работу по деконструкции религии, во многих пунктах схожую с критикой религиозно-метафизических постулатов, которая предложена в книгах Деррида, Нанси, Ваттимо, Рорти и др. Мотив призрачности и необъяснимости Божественных проявлений, неоднократного встречаемый в поздних текстах Пригова, перекликается с обоснованным Джоном Капуто понятием «слабой теологии», отводящей Богу страдательно-пассивную роль в мистерии спасения. Отчасти христология Пригова (особенно в «Неодуховных реминисценциях») концептуально «рифмуется» с пониманием парусии, второго пришествия Христа, как выхода за пределы религии в критике метафизики присутствия, развитой в книге Жана-Люка Нанси «Приоткровение». Сейчас трудно сказать, насколько основательно Пригов был знаком с этими теориями, базовыми для современной деконструкции религии; вероятно, многие из них доходили до него если не напрямую, то через художественный контекст тех международных выставок и фестивалей, которые он посещал, реализуя свою артистическую карьеру.
Ключом к пониманию (или, по крайней мере, к созданию рабочей интерпретации) теологического проекта позднего Пригова может послужить концепция «монструозности Христа». Под влиянием гегелевской формулировки она выдвинута Славоем Жижеком в одноименном, написанном в соавторстве с Джоном Мильбанком, фундаментальном исследовании неразрешимых противоречий христианства. Изучая различные экзегетические трактовки земного воплощения Христа – от гностицизма, Мейстера Эйкхарта, Якова Беме до Гегеля и Шеллинга, Жижек полагает, что основная дилемма христианства заключается в несоединимости абсолютной полноты/пустоты Божественного присутствия и тотальной пустоты расщепленной субъективности. Материализация Христа не преодолевает эту несоединимость, а, наоборот, увеличивает раскол, делая его конститутивным для формирования европейского субъекта. Финальная реплика Бога в пьеске Пригова «Стереоскопические картинки частной жизни» (в разделе «Чудища современной жизни») разделяет по принципу взаимного целеполагания «жизнь» и «живых», то есть познающую субъективность и объективацию Высшего разума: «Бог: А живой, Машенька, не обязательно для жизни, и жизнь, Машенька, не обязательно для живых». Жижек объясняет «чудовищность Христа» тем, что непреодолимый разрыв проходит не столько внутри самого субъекта, не столько между человеком и Богом, сколько внутри самого Бога.
Согласно Жижеку, таинственная и непостижимая фигура, с которой мы не можем мириться, это не объяснимый для нас Другой, а Другой внутри Другого, то, что для Другого является никогда не разгадываемой загадкой внутри него самого. Так, материализованный Христос оказался в первую очередь фигурой (непонятного и непонятого) Другого для самого Бога. Отсюда Жижек делает вывод, что земное воплощение Христа явилось непостижимой и катастрофической мистерией не только для человека, но и для самого Бога, мистерией, благодаря которой происходит «двойной кенозис»: отчуждение человека от Бога сопровождается самоопустошением и отчуждением Бога от самого себя. Согласно Жижеку, Человек-Христос «монструозен», поскольку, будучи и оставаясь Богом, является самому Богу в анаморфическом обличье человека. Иными словами, именно воплотившийся в человека Христос содержит в свернутом виде (а иногда раскрывает ее) диалектически необъяснимую загадку физического соприсутствия запредельного, опасной и чарующей близости монструозного Иного.
По-своему виртуозная критика христианства, предложенная Жижеком, строится на радикализации гегелевской диалектики, доведении ее до экстремальной негативности и органичного соединения с деконструкцией религии, проделанной в современном философском дискурсе. Любопытно, что в поздней поэтике Пригова сакральное также проявляется в оболочке-ауре монструозного (а монструозное в обличье сакрального). Фигура приговского монстра может быть прочитана как зловещее выражение Другого, уже потенциально содержащего в себе собственного неотторжимого Другого. Отсюда понятно пристрастие Пригова к уточняющим его теологические представления префиксам. Вместо духовности он предлагает термин «неодуховность», вместо святости – «постсвятость», тем самым подразумевая наступление «пострелигиозной» стадии, когда познание Идеального, Божественного, Неведомого становится возможным благодаря столкновению с предъявленным эмпирически, сосуществующим рядом с человеком монстром.
В цикле «Неодуховные реминисценции» (раздел «Бог, чудо, чудовище») Христос постоянно вынужден приоткрывать свою «монструозность»: он ассоциируется, вполне в соответствии c криминально-брутальной романтикой российских 1990-х, с фонтанами крови, неиссякаемо бьющими из молодого тела:
А он вдруг как обернется Телом юным и прекрасным Да на кресте висит ужасном Кровь от рук и ног лиется Посмотри-ка я какой МилаяИли:
Стройный юноша тихо идет Его девушки окружили Одна за руку нежно берет Да и вовсе его закружили Хочешь, хочешь, приятное сделаем? Но вдруг раны открылись на нем И в их лица прекрасные белые Кровь потоками, словно огнем ХлынулаИли:
Он рубаху свою поднимает И две раны живых на груди обнажает Кровь бежит от них как две прозрачные рекиПриговский Христос – вовсе не Христос Евангелия, не Христос сектантских суеверий или народного православия, это ни в коем случае не еретическая или богоборческая аллегория. Это новый антропологический образ неведомого, который включает неизбежное столкновение с монстром, нередко предстающим в традиционных символических ипостасях. Поэтому приговский Христос «локализован» в небесном аду и обнимает огненного апокалиптического зверя: