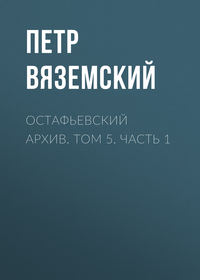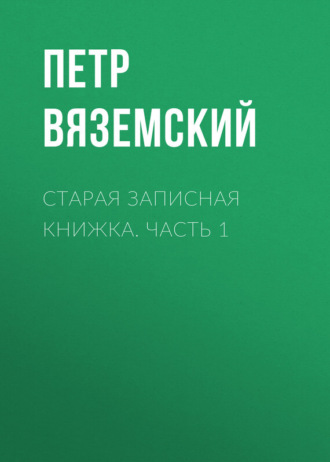 полная версия
полная версияСтарая записная книжка. Часть 1

Петр Вяземский
Старая записная книжка. Часть 1
Много скучных людей в обществе, но вопрошатели для меня всех скучнее. Эти жалкие люди, не имея довольно ума, чтобы говорить приятно о разных предметах, но в то же время не желая прослыть и немыми, дождят поминутно вопросами кстати или некстати сделанными, о том ни слова. Не можно ли их сравнить с будочниками, которые ночью спрашивают у всякого прохожего: кто идет? Единственно для того, чтобы показать, что они тут. Вольтер, встретясь однажды с известным охотником до пустых вопросов, сказал ему: очень рад, что имею удовольствие вас видеть; но сказываю вам наперед, что ничего не знаю.
* * *– Не понимаю, – сказала недавно Селимена, с которой разговаривали о петербургских актерах, игравших на Московском театре, – как здешняя публика могла осыпать рукоплесканиями А…?
– Что же находите в этом удивительного? – отвечал ей Оргон, – всякий готов ласкать и обезьяну любимой женщины. Известно, что А… – муж славной Филисы.
* * *Один остроумный мизантроп, пишет Шанфор, рассуждая о развращении людей, сказал: Бог послал бы нам и второй потоп, когда бы увидел пользу от первого.
* * *– Видели ли вы французского короля? – спросил однажды Фридрих у д'Аламбера.
– Видел, ваше величество, – отвечал философ.
– Что же он вам сказал?
– Он со мной не говорил.
– С кем же он говорит? – спросил король с досадой.
* * *N. смертный сын бессмертной Клио, то есть историк, и, надобно прибавить, русский историк, находился однажды в обществе, в котором рассуждали о Вольтере; всякий своим образом хвалил сего великого писателя.
N. спорил со всеми, наконец сказал: согласен, государи мои: Вольтер писал изрядно; верьте однако, что я никогда не простил бы себе, если бы мог усомниться, что напишу что-нибудь хуже него.
Что же написал г. N? Бредни о русской истории. Вероятно, что книга Иоанна Масона о познании самого себя была ему неизвестна.
* * *Галкин, добрый, но весьма простой человек, желает прослыть приятным хозяином – и для того самым странным образом угощает гостей своих.
Например, не умея с ними разговаривать, он наблюдает за каждым их движением: примечает ли, что один из присутствующих желал бы кашлянуть, но не смеет, опасаясь помешать поющей тут даме, – и тотчас начинает, хотя и принужденно, кашлять громко и долго, дабы подать собой пример; видит ли, что некто, уронив шляпу, очень от того покраснел, и тотчас сам роняет стол; потом подходит с торжественным видом к тому человеку, для которого испугал все общество стукотней, и говорит ему: видите ли, что со мной случилась еще большая беда?
Но часто он ошибается в своих наблюдениях. Например, вчерашний вечер, когда мы все сидели в кружке, он вздумал, не знаю почему, что мне хочется встать, и тут же отодвинул стул свой; но, видя, что я не встаю, садился и вставал по крайней мере двадцать раз, и все понапрасну.
И я нынче услышал от одного моего приятеля, что он, говоря обо мне, сказал: он добрый малый, но, сказать между нами, уж слишком скромен и стыдлив.
* * *Иные любят книги, но не любят авторов – неудивительно: тот, кто любит мед, не всегда любит и пчел.
* * *Панкратий Сумароков, удачный подражатель Богдановича в карикатурных изображениях, коренной принадлежности русского ума. Где француз улыбнется, русский захохочет. Французская эпиграмма хороша, когда задевает стрелою. Русская, когда хватит дубиною или ударит топором. Французские глаза любят цвета нежные, но с красивостью переливающиеся; русские радуются краскам хотя и грубым, но ярким. Посмотрите на наши комедии: тут уму нечего догадываться, зрителю дополнять. Все не в бровь, а в самый глаз; все так глаза и колет; все высказано, выпечатано и перепечатано. То же можно сказать и о комическом духе немцев, англичан, испанцев, с той только разницей, что у нас один истинный комик, Фон-Визин, и то в одной комедии, а у тех существует театр народный.
Покойный Жолковский, лучший комический актер Варшавского театра, на обвинение, делаемое ему, что он иногда слишком плотно шутит, отвечал: «Вы живописцы образованные, не знаете ремесла театральных маляров; я зрителей своих знаю. Мои декорации, слишком грубо писанные для вас, глядящих на них вблизи или сквозь искусственное стекло, издали только что в пору для них». Многие из читателей наших также читают издали. Излишние утонченности ускользают от них. Они не любят бледной, воздушной красоты ни в телесном, ни в духовном: давай им красоту дородную, кровь с молоком.
* * *Я уверен, что злые поклонники солнца радуются пасмурному дню. При таком свидетеле и судье мудрено пуститься на худое дело. Солнце для них то же, что деревянные головы, вставленные в потолок в Краковском судилище, которые, как рассказывает предание, взывали к царю: «Будь справедлив!» Хорошо и каждому из нас завести бы у себя хотя по одной такой голове. «На то есть совесть», скажете вы. Конечно, тем более что у многих она одеревенела не хуже деревянной башки.
* * *Мало иметь хорошее ружье, порох и свинец; нужно еще уметь стрелять и метко попадать в цель. Мало автору иметь ум, сведения и охоту писать; нужно еще искусство писать. Писатель без слога – стрелок, не попадающий в цель. Сколько умных людей, которых ум притупляется о перо. У иного зуб остер на словах; на бумаге он беззубый. Иной в разговоре уносит вас в поток живости своей; тот же на бумаге за душу вас тянет. Шаховский, когда хочет вас укусить, только что замуслит.
* * *Слова – условленные знаки мыслей. Иные имеют в глазах наших цену существенную, весовую и утвержденную временем и употреблением; другие вводятся в язык насильственно, и цена их условная. Государство не имеет довольно звонкой монеты; оно прибегает к ассигнациям. Язык не имеет довольно коренных слов; он прибегает к словам составным или относительным. Для монет есть монетный двор, для слов есть Академия; но она не выбивает новых слов, а только свидетельствует и клеймит старые. Академия – пробная палатка, но рудники – писатели.
Когда годится ассигнация? Тогда, как пустившие ее в ход за нее отвечают и силой, или доверенностью, или другими средствами убеждают других почитать ее тем, чем он ее выдает. Или возьмем в пример марки клубные, или городских касс, употребляемые в иных клубах и городах: вне общества, вне города они не имеют никакой цены, но в известном круге эти марки почитаются настоящими представительными знаками денег и наравне с ними в ходу. Отчего же бы по этому примеру нельзя новому поколению дополнить неимущество своего языка условленными звуками, преобразовавшимися в слова, долженствующие также, в свою очередь, образовать глазам и ушам понятия, еще не имеющие выражения на языке?
В финансовых производствах скудость в представительных знаках, в соразмерности с потребностью, вознаграждается удвоением, утроением знаменования представителя: то есть рубль делается рублями, и так далее. В языке этого делать нельзя, или по крайней мере не должно. Слово, имеющее два, три значения, не годится ни на одно значение. Как же помочь? Иностранных слов брать не велят: от сего займа терпит народная спесь. Заметим, однако же, мимоходом, что голландские червонцы у нас в ходу: кажется, было бы и слово чистого золота, то брезговать не к чему. Хуже отказываться от выражения понятий нам сродных потому только, что они не приходили в голову нашим предкам и чужды были их веку.
Как этимологи ни мучься над родословием слов – но все многие слова – звуки, выраженные наудачу, подкидыши на распутий ума человеческого, которые после того сделались приемышами, а там уже усыновлены и узаконены порядком. Зачем же нам оставаться бездетными? Мы боимся подставочным поколением оскорбить наследственные права старших братьев, которые, если разбирать строго, может быть, окажутся еще их беззаконнее. В дипломатике употребляют же цифры произвольные, не заботясь о том, что никакая грамматика, никакой Словарь Академический не дали знакам этим права гражданства. Дело в том, чтобы понимать друг друга.
Какое же вывести заключение из всего сказанного? То, чтобы в случае недостатка слов для выражения понятий, для наименования вещей, нам равно необходимых, равно свойственных, решились бы хотя на каком-нибудь съезде писателей выбить из известных слов и звуков новые слова и без околичностей внести их в общий словарь русского языка.
Признаюсь, выведенное заключение несколько напугать может и не робкую душу самого отчаянного неолога! Но как же помочь в беде? Впрочем, обращаюсь к своему эпиграфу и укрываюсь в его засаде: «Кидаю мысли свои на бумагу, и справляйся они, как умеют».
* * *Я нашел у старика Сумарокова прекрасное слово: заблужденники, которое тщетно после того искал и в Словаре Академическом, и в других писателях. Подобные прилагательно-существительные – совершенная находка: у нас в них недостаток, а они выразительны и полновесны.
* * *«Витийство лишнее природе злейший враг», сказал в ответ на оду Майкова тот же Сумароков, у коего вырывались иногда стихи не красивые, но правильные и полные смысла, а особливо в сатирах. Вот примеры:
Пред низкими людьми свирепствуй ты как черт,Простой народ и чтит того, кто горд.(Наставление сыну.)
Мой предок дворянин, а я неблагороден.(О благородстве.)
Но чем уверят нас о прабабках своих,Что не было утех сторонних и у них.«Сторонних утех» забавное и счастливое выражение.Один рассказывал: другой заметил тож:Все мелет мельница: но что молола? Ложь.(О злословии.)
Если издатели Образцовых Сочинений с умыслом переменили стих Сумарокова о невеждах, в сатире: Пиита и его друг:
Их тесто никогда в сатире не закиснет,на:
Их место никогда в сатире не закиснет,то двойною виной провинились они: против истины и поэзии. Выражение Сумарокова не щеголевато, но забавно и точно. Место не закиснет не имеет никакого смысла. Иногда же он в сатирах своих просто ругается; иногда, по нынешнему, либеральничает и крепко нападает на злоупотребления крепостного владения, например:
Ах! Должно ли людьми скотине обладать?Не жалко ль, может бык людей быку продать?* * *«Тело врага умершего всегда хорошо пахнет», сказал Вителлий и повторил Карл IX. Случалось ли вам радоваться падению соперника, лакомиться чтением дурного сочинения неприятеля вашего, заслушиваться рассказа подробного о непохвальном поступке человека, который сидит у вас на шее и на сердце? Случалось ли? Верно: да! Случалось ли в том признаваться? Верно: нет! Итак, не гнушайтесь вчуже чувством Вителлия и Карла, а только дивитесь их нескромному признанию.
* * *Веревкин, сочинитель комедий: Так и должно и Точь-в-точь, которая, как говорят, осмеивала некоторых из симбирских лиц и была представлена в их присутствии. Переводчик Корана, издатель многих книг, напечатанных без имени, а только с подписью деревни его: Михалево, сделался известным императрице Елизавете следующим образом. Однажды, перед обедом, прочитав какую-то немецкую молитву, которая ей очень понравилась, изъявила она желание, чтобы перевели ее на русский язык. «Есть у меня человек на примете, – сказал Шувалов, – который изготовит вам перевод до конца обеда», – и тут же послал молитву к Веревкину.
Так и сделано. За обедом принесли перевод. Он так полюбился императрице, что тотчас же или вскоре затем наградила она переводчика 20 000 рублей. Вот что можно назвать успешной молитвой.
Веревкин любил гадать в карты. Кто-то донес Петру III о мастерстве его: послали за ним. Взяв в руки колоду карт, выбросил он искусно на пол четыре короля. «Что это значит?» – спросил государь.
«Так фальшивые короли падают перед истинным царем», – отвечал он. Шутка показалась удачной, а гадания его произвели сильное впечатление на ум государя. И на картах ему посчастливилось: вслед за этим отпустили ему долг казенный в 40 000 рублей.
Император сказал о волшебном мастерстве Веревкина императрице Екатерине и пожелал, чтобы она призвала его к себе. Явился он с колодой карт в руке.
«Я слышала, что вы человек умный, – сказала императрица, – неужели вы веруете в подобные нелепости?»
«Нимало», – отвечал Веревкин.
«Я очень рада, – прибавила императрица, – и скажу, что вы в карты наговорили мне чудеса».
Он был великий краснобай и рассказчик, много живал в деревне, но когда приезжал в Петербург, то с шести часов утра прихожая его наполнялась присланными с приглашениями на обед или вечер: хозяева сзывали гостей на Веревкина. Отправляясь на вечеринку или на обед, говорят, спрашивал у товарищей своих: «Как хотите: заставить ли мне сегодня, слушателей плакать или смеяться?» И с общего назначения то морил со смеха, то приводил в слезы.
Это похоже на французских говорунов старого века. Шамфор, Рюльер также были артисты речи и разыгрывали свой разговор в парижских гостиных по приготовленным темам.
Веревкин когда-то написал шутку на Суворова, в которой осмеивал странные причуды его. Суворов знал о ней. Веревкин был в военной службе, а после – действительным статским советником; был в дружеской связи с Фон-Визином и уважаем Державиным, который был учеником в Казанской гимназии, когда Веревкин был ее директором. «Помнишь ли, как ты назвал меня болваном и тупицей?» – говаривал потом бывшему начальнику своему тупой ученик, переродившийся в статс-секретаря и первого поэта своей нации. (Рассказано мне родственником его, генералом Веревкиным, который после был комендантом в Москве.)
* * *Напрасно Шлегель говорит в своей драматургии: «Если Расин в самом деле сказал, что он отличается от Прадона единственно тем, что умеет писать, то жестоко был к себе несправедлив».
Конечно, должно дополнить это мнение, но помнить притом, что Расин сказал это во Франции: слог у французов первая необходимость; у немцев, уже по другой крайности, он часто последнее условие. В искусствах нельзя не ценить отделки: немцы же все ценят на вес. Поэтому и суждения Шлегеля о французском театре часто ошибочны и пристрастны: он судил о нем, и вообще немцы судят о французской литературе не как знатоки или охотники, но как заимодавцы под вещи. Французы выше всего ставят ясность и щегольство слога; Корнель на театре их почти позабыт. Грубый стих, дикое выражение в глазах их грех неискупимый и переживает, то есть хоронит, целую поэму.
Ломьер, автор поэм и трагедий, в которых есть точно существенное достоинство, известен у них частой стычкой несладкозвучных согласных, шероховатостью и проч. Нет француза, который не знал бы этих стихов его:
Crois – tu tel forfait Manco-Capac d'capable?И Opera sur roulette et qu'on porte a dos d'homme.И никто уже не заглядывает в его творения, оглашенные подобными стихами. Уши немцев уживчивее. Вообще иностранцу можно, как наблюдателю, говорить о словесности чуждого народа, но никогда не должно позволять себе излагать о ней судейские приговоры. В рассмотрении тяжбы подсудимого должно держаться уложения, которому он подлежит, а нельзя со своими законами идти на управу в чужую землю.
* * *Если не признавать цены отделки, вкуса, свойственного такому-то народу и такому-то веку, как постигнуть уважение древности к Анакреону? О нашем уважении уже не говорю: оно суеверие и присвоено нами по преданию. Переводить сухой прозой Анакреона – то же, что переложить на русские слова каламбуры маркиза Биевра; а Гораций все еще жив во французском переводе, как ни душит его прозаик Баттё.
* * *В той же комнате Английской гостиницы варшавской, в коей Наполеон после бедственного русского похода давал свою достопамятную аудиенцию Прадту и некоторым полякам, был положен, спустя несколько месяцев, труп Моро, во время перевоза бренных останков его в Петербург. У судьбы много таких драматических выходок.
* * *Одно из любимых чтений Кострова было роман Вертер. Когда он бывал навеселе, заставлял себе читать его и заливался слезами. Однажды в подобном положении, после чтения продиктовал он любовное письмо, во вкусе Вертера, к прежней своей возлюбленной. Жаль, что не сохранился сей любопытный памятник переводчика Илиады.
Костров не любил стихов Петрова: за чашею или после чаши всегда слушал их с удовольствием. Он был истинный чудак, и знавшие его коротко рассказывают о нем много забавных странностей. Бывало, входит он в комнату приятелей своих в шляпе трехугольной, снимет для поклона и снова наденет на глаза, сядет в угол и молчит. Только когда услышит от разговаривающих речь любопытную или забавную, то приподнимет шляпу, взглянет на говоруна и опять ее насунет.
Он так был нравами непорочен, что в доме Шувалова отведена была ему комната возле девичьей. Однажды входит к нему Дмитриев и застает его на креслах перед столом, на коем лежит греческий Гомер, в пергаменте, возле Кострова горничная девушка, а он сшивает разные лоскутки. «Что это вы делаете, Ермил Иванович?» – «А вот девчата понадовали мне лоскутья, так сшиваю их, чтобы не пропали». Добродушие его было пленительное.
Его вывели на сцену в одной комедии, кажется, ныне покоющейся на обширном кладбище нашего Российского Феатра, и он любил заставлять при себе читать явления, в коих представлен он был в смешном виде. «Ах! Он пострел, – говаривал он об авторе, – да я в нем и не подозревал такого ума. Как он славно потрафил меня!»
Карамзин встретился с ним в книжной лавке, за несколько дней до кончины его. Он был измучен лихорадкой. «Что это с вами сделалось?» – спросил его Карамзин. «Да вот какая беда, – отвечал он, – всегда употреблял горячее, а умираю от холодного».
Он сказывал о себе, что он сын дьячка, но на первой оде его напечатанной выставлено, что сочинена крестьянином казенной волости. (Все сказанное о Кострове слышано от И. И. Дмитриева.)
* * *Скоро наскучишься людьми, у коих душой бывает ум: надежны одни те, у коих умом душа. Вовенарг сказал: мысли высокие истекают из сердца. Можно прибавить: и приемлются сердцем. Слова человека с умом цифры: их должно применять, высчитывать, проверять; слова человека с душой деяния: они увлекают воображение, согревают сердце, убеждают ум.
* * *Женщины господствуют в жизни силой слабостей своих и наших. Они напоминают изваяние, представляющее Амура, который обуздал льва. Он царь; но дитя сел ему на шею.
* * *О Хераскове можно сказать, что он сохранил до старости холодность, заметную в первых стихах его молодости.
* * *Музыка и живопись
Музыка – искусство независимое, живопись – подражательное и, следовательно, подвластное. Последняя говорит душе посредством глаз и действует преимущественно на память, уподоблением с тем, что есть и что мы видели или могли видеть. Первая только по условию покорилась определенным формам, но по существу своему она всеобъемлюща. Есть музыка без нот, без инструментов. В живописи все вещественно: отнимите кисть, карандаш, и она не существует. Живое в ней – оптический обман. Истинное в ней – краски, кисти, холст, бумага – мертвое. В музыке обман то, что в ней есть мертвое. Ноты – цифры ее, соображение строев, созвучий, математика их, все это условное, безжизненное. Живое в ней почти не осязается чувством. Живопись была сначала ремеслом, рукодельем: уже после сделалась она творением. Музыка творение первобытное, и только из угождения прихотям, или недостаткам человеческим сошла она в искусство. Шум ветров, ропот волн, треск громов, звучные и томные переливы соловья, изгибы человеческого голоса, вот музыка довременная всем инструментам.
Живопись – наука; музыка – способность. Искусство говорить наука благоприобретенная; но дар слова – родовое достояние человека. Не будь частей речи, не будь слов, не менее того были бы звуки неопределенные, сбивчивые, но все более или менее понятные для употребляющих; не будь нот, генерал-баса, а все была бы музыка.
Музыка – чувство; живопись – понятие. В первой чувство родило понятие; в другой от понятий родилось чувство. Господствующее сродство музыки с нами: ее переходчивость. Мы симпатизируем с тем, что так же минутно, так же неутвердимо, так же загадочно, неопределенно, как мы. Звук потряс нашу душу – и нет его, наслаждение обогрело наше сердце – и нет его.
В живописи видны уже расчет рассудка, цель, намерение установить преходящее, воскресить минувшее или будущему передать настоящее. Это уже промышленность. В музыке нет никаких хозяйственных распоряжений человека, минутного хозяина в жизни. Душа порывается от радости или печали; она выливается в восклицание, или стон. Ей нет потребности передать свои чувства другому, она просто не могла утаить их в себе. Они в ней заговорили, как Мемнонова статуя, пораженная лучом денницы. Вот музыка.
Есть солнце гармонии: оно действует на своих поклонников, согревает и оплодотворяет их гармонической теплотой. Часто слышишь, что живопись предпочитается как упражнение, более независимое от обстоятельств, удобнее, чтобы провести или, как говорится, убивать время, следовательно, прибыльнее для сбывающих с рук его излишество. Тут идет дело о пользе, а я о наслаждении и думать не хочу: говорю о потребности, о необходимости. Горе музыканту или поэту, принимающемуся за песни от скуки. Оставим это промышленникам. Несчастный, уязвленный в душе, как бы ни был страстен к живописи, возьмется ли за кисть в первую минуту поражения; разве после, когда опомнится и покорится рассудку, предписывающему рассеяние. Без сомнения, музыкант и поэт, если живо поражены, не станут также считать стопы или сводить звуки; но ни в какое время, как в минуты скорби душевной, душа их не была музыкальнее и поэтичнее.
Однако же и живопись имеет в нас природное соответствие. Мы часто спускаем взоры с подлинной картины природы и задумчиво заглядываемся на повторение ее в зеркале воды, отражающем ее слабо, но с оттенками привлекательности. Человек по возвышенному назначению ищет совершенства; но по тайной склонности любуется в несовершенствах. Неотразимо чувствуя в душе преимущество музыки над живописью, я готов почти применить сказанное мною о живописи к поэзии, в сравнении с музыкой, признавая, однако же, в поэзии много свойств живописи и музыки. Впрочем, музыка одна и нераздельна (une et indivisible), как покойная Французская республика.
В поэзии много удельных княжеств: есть поэзия ума, поэзия воображения, поэзия нравоучения, поэзия живописная, поэзия чувства, которая есть законнейшая, ближайшая к общей родоначальнице – поэзии природы, поэзии вечной. Есть же поэзия без стихов: на стихи без поэзии указывать нечего. В условленном выражении поэзии есть слишком много примеси прозаической. Поэзия – ангел в одежде человеческой; музыка прозрачно подернута эфирным покровом. Она ничего не представляет и все изображает; ничего не выговаривает и все выражает; ни за что не ответствует и на все отвечает. Язык поэзии, стихотворство, есть язык простонародный, облагороженный выговором. Музыка – язык отдельный, цельный. Их можно применить к письменам демотическим (народным) и гиератическим (священно-служебным), бывшим в употреблении у древних египтян. Музыка – усовершенствованные, возвышенные иероглифы: в них все мирские же знаки изображали человеческие понятия. В музыке знаки бестелесные возбуждают впечатления отвлеченные. В поэзии есть представительство чего-то положительного; в музыке все неизъяснимо, все безответственно, как в идеальной жизни очаровательного и стройного сновидения. Что ни делай, а таинственность, неопределимость – вот вернейшая прелесть всех наслаждений сердца. Мы прибегаем к изящным искусствам, когда житейское, мирское уже слишком нам постыло.
Мы ищем нового мира, и вожатый, далее водящий по сей тайной области, есть вернейший любимец души нашей. Этот вожатый, этот увлекатель и есть музыка. Ангелы, херувимы, серафимы, в горних пределах, не живописуют силы Божией, а воспевают ее. Если пришлось бы подвести искусства под иерархический порядок, вот как я распределил бы их: 1-я – Музыка, 2-я – Поэзия, 3-е – Ваяние, 4-я – Живопись, 5-е – Зодчество.
* * *Что за страсть, если она страдание? Недаром на языке христианском имеют они одно значение. Должно пить любовь из источника бурного; в чистом и тихом она становится усыпительным напитком сердца. Счастье – тот же сон.
Откровенная женщина говаривала: люблю старшего своего племянника за то, что он умен; меньшего, хотя он и глуп, за то, что он мой племянник. Так любим мы свои способности и неспособности, духовные силы и немощи, добрые качества и пороки. Порок, каков он ни есть, все же наш племянник.
* * *Опытность – не дочь времени, как говорится ложно, но событий.
* * *Ривароль говорил о союзниках в продолжение революционной войны: они всегда отстают одной мыслью, одним годом и одной армией.
* * *Мне всегда забавно видеть, как издатели и биографы сатириков ограждают божбами совесть их от подозрений в злости и стараются задобрить читателей в пользу своих литературных клиентов. Не все ли равно распинаться за хирурга в том, что он не кровожадный истязатель и душегубец; но сатирик – оператор, срезывающий наросты и впускающий щуп в заразительные раны.