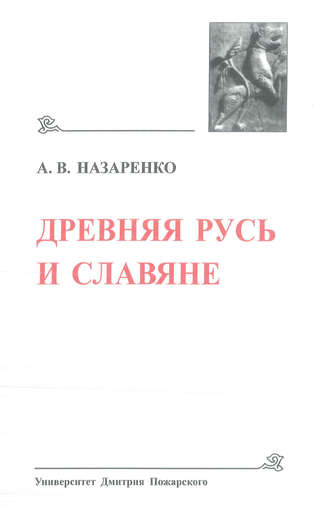
Полная версия
Древняя Русь и славяне

Александр Назаренко
Древняя Русь и славяне (Древнейшие государства Восточной Европы, 2007 год)
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ИНСТИТУТ ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ

Подготовлено к печати и издано Русским Фондом Содействия Образованию и Науке, 2009 год, в рамках проекта Университета Дмитрия Пожарского
Редакционная коллегия серии:
доктор исторических наук Е. А. Мельникова (ответственный редактор),
кандидат исторических наук Г В. Глазырина,
доктор исторических наук Т. Н. Джаксон,
доктор исторических наук И. Г Коновалова,
кандидат филологических наук В. И. Матузова,
доктор исторических наук А. В. Назаренко,
доктор исторических наук А. В. Подосинов,
доктор исторических наук Л. В. Столярова,
доктор исторических наук |И. С. Чичуров,|
член-корреспондент РАН Я. Н. Щапов

Александр Васильевич Назаренко
Предисловие
Когда осенью 1974 г. автор этих строк впервые переступил порог академического Института истории СССР, незабвенный Владимир Терентьевич Пашуто, которому предстояло стать научным начальством новоприбывшего, осведомился о возрасте будущего сотрудника. Узнав, что «молодому ученому» 27 лет, он подавил вздох и утешил: «Ничего, я тоже поздно пришел в науку».
С тех пор минули эпические «ровно тридцать лет и три года». С признательностью принимая предложение коллег – теперь уже по Институту всеобщей истории Российской академии наук – отметить «закруглившуюся» дату неким флорилегием проделанного, юбиляр недолго колебался относительно содержания. В свое время, вынашивая грандиозную идею издания многотомного Свода древнейших источников по истории народов СССР, В. Т. Пашуто сплотил группу недавно покинувших университетские стены филологов (античников, византинистов, скандинавистов, славистов, германистов, арабистов) в Сектор истории древнейших государств на территории СССР, который mutatis mutandis жив, слава Богу, по сей день, хотя и много претерпел, επεί Τροίης ιερόν πτολίεθρον επράθετο, – о чем было бы говорить долго. При всем том Владимир Терентьевич мечтал, чтобы со временем из когорты «мобилизованных» филологов выросли источниковедчески искушенные (что без филологической основы немыслимо) историки Восточной Европы и прежде всего Древней Руси. Иными словами, его целью было восстановление некогда существовавшего в науке историко-филологического единства, способного обеспечить тот самый комплексный подход к изучению Древней Руси, о котором сегодня так много говорится, но который покуда сводится чаще всего к эпизодическим собеседованиям разнопрофильных специалистов. На примере собственной судьбы в науке автор убедился, с какой поистине роковой неизбежностью совершалась эта перемена, как древнерусская история, поначалу в части международных связей Руси (которые, понятным образом, в первую очередь находили отражение на страницах иностранных источников), а потом и в целом, все более заполняла собой исследовательский горизонт.
Поэтому, ощущая горький привкус итоговости, неизбежно присущий любому, даже скромному, юбилею, мы сочли логичным собрать воедино ряд работ, посвященных прежде всего собственно Древней Руси, исключая ее внешние связи, несмотря на то что именно последние были предметом наших изысканий в течение долгих лет (впрочем, они в достаточной мере обобщены в другой книге[1]). Чистых исключений – два. Это небольшая статья об одном из аспектов деятельности просветителя славян святителя Мефодия и эссе об этимологии самоназвания скифов Σκολότοι (ΣκόλοτοιΊ). В оправдание скажем, что кирилло-мефодиевская проблематика всегда (и справедливо) рассматривалась как общеславянское введение в русскую историю. Эту славяно-русскую тему продолжает и статья о славянском язычестве. Что же касается этимологии – то лингвистический par excellence этюд об одной из восточноевропейских древностей перебрасывает тонкий мостик в филологическое прошлое автора, тем самым, в какой-то мере символически, проставляя логические скобки и замыкая конец на начало, как то и положено по закону жизни. Кроме того, он хронологически и географически оттеняет две других тематически близких, но разножанровых работы: об этимологии названия Киев и о выдающемся русском этимологе – Олеге Николаевиче Трубачеве, великодушная поддержка которого (равно как и Федота Петровича Филина) сопровождала в далеком 1980 г. появление нашей первой языковедческой публикации. Присутствие в сборнике лингвистических и полулингвистических работ в наших глазах тем более оправдано, что реконструктивный метод сравнительно-исторического языкознания во многом, как мы теперь понимаем, определил реконструктивизм автора этих строк и в качестве историка – за что его не раз корили коллеги, причем, что замечательно, как более «модернистски», так и более консервативно настроенные[2].
О прочих статьях особо не говорим. Правомерность их соединения под одной обложкой, думается, не должна вызвать сомнений даже у придирчивого читателя. Заметим только, что ни одна из них не является простым воспроизведением уже опубликованного. Все тексты просмотрены заново, исправлены и дополнены. В большинстве случаев речь идет о радикальной переработке, а иногда – о совершенно новой работе. Поскольку первоначально статьи вовсе не предназначались для сведе́ния в сборник, в них неизбежно встречаются некоторые повторы. Как правило, мы старались избегнуть их, пользуясь перекрестными ссылками, но последовательное их истребление стало бы делом хлопотным, да и могло бы повести в отдельных случаях к сбою в логическом строе изложения. Автор утешал себя школьной истиной, что повторение – мать учения.
В заключение, отчасти возвращаясь к сказанному в первых строках, припоминаем одно из любимых речений В. Т. Пашуто, с которым он не раз адресовался к молодым и, по молодости, порой не в меру задиристым коллегам: «Надо стоять на плечах, а не на костях своих предшественников». Возраст дает много возможностей убедиться в справедливости этих слов. Вот почему позволим себе – хочется верить, не совсем без права – закончить неформальным посвящением этой небольшой summa всем старшим коллегам, как ушедшим, так и здравствующим, без труда которых она была бы невозможна, и вообще поколению наших отцов и дедов, благодаря жизни и смерти которых мы живы.
И нить русской истории не рвется.
Москва, весна 2008 г.
I. Древнерусское династическое старейшинство по «ряду» Ярослава Мудрого и его типологические параллели – реальные и мнимые[3]
Главнейшей чертой, которая определяла династический строй во многих раннесредневековых государствах Европы, был взгляд на государство как на патримоний – семейное владение, подлежавшее передаче от отца ко всей совокупности его сыновей-наследников. Если наследников было несколько, то возникало так называемое corpus fratrum – так или иначе организованное братское совладение тем, что можно было бы с известной степенью условности назвать «государством» (доходами, территорией, формами репрезентации и т. д.). Наиболее последовательно этот порядок, вытекающий из устройства архаического династически-родового сознания, был реализован в государстве франков и на Руси, где приобрел самые развитые и дифференцированные формы[4].
Возможно, впрочем, что отчасти такое впечатление имеет причиной относительно благоприятное состояние источников по данной теме применительно именно к Древней Руси и особенно Франкской державе. Это, однако, не означает, что все этапы эволюции corpus fratrum на древнерусской почве в равной и должной мере обеспечены источниками и вполне ясны. Вот почему привлечение сравнительно-исторического материала других династических традиций, пусть в целом и меньше освещенных источниками, чем древнерусская, может быть полезным историку-русисту для прояснения как исторической сути дела, так и ситуации в историографии, в которую уже прочно вошли и даже до известной степени «канонизировались» некоторые не всегда основательные типологические наблюдения из области династического устройства Древней Руси.
В истории древнерусского княжеского дома раздел между сыновьями киевского князя Ярослава Мудрого (1019–1054), предпринятый по завещанию последнего – так называемый «ряд» Ярослава – сыграл, как известно, эпохальную роль. Сообщение «Повести временных лет» об этом завещании неоднократно обсуждалось в науке[5]. И это понятно, поскольку уделы Ярославичей, их границы, послужили исходной точкой формирования будущей территориально-политической структуры Руси – земель-княжений XII в., а само завещание Ярослава Владимировича рассматривалось впоследствии (например, на известном Любечском съезде князей 1097 г.) как безусловное правовое основание существования этих земель в качестве отчин соответствующих ветвей княжеского семейства[6]. Одним из главных моментов, связанных с завещанием 1054 г., который привлекал внимание исследователей, был провозглашенный «рядом» сеньорат (или, по древнерусской терминологии, старейшинство) старшего из остававшихся к тому времени в живых Ярославичей – Изяслава.
Вот к чему сводится текст завещания, согласно «Повести», если опустить открывающее его общенравственное наставление блюсти братскую любовь: «В лето 6562. Преставися великыи князь Русьскыи Ярослав. И еще бо живущу ему наряди сыны своя, рек им: <…> Се же поручаю в собе место стол старейшему сыну моему и брату вашему Изяславу Кыев, сего послушайте, яко послушаете мене, да то вы будеть в мене место. А Святославу даю Чернигов, а Всеволоду Переяславль, а Вячеславу Смолинеск. И тако раздели им грады, заповедав им не преступати предела братия, ни сгонити, рек Изяславу: Аще кто хощеть обидети брата своего, то ты помагаи, его же обидять»[7].
Этот краткий летописный текст вызывает ряд взаимосвязанных вопросов. Прежде всего, насколько он достоверен? Не в отношении самого факта предсмертного раздела Ярославом своих владений между сыновьями, а именно в отношении установления старейшинства Изяслава? Далее, если «ряд» Ярослава и имел в виду сеньорат старшего из Ярославичей, становившегося киевским князем, то было ли такое установление новым? Иными словами, надо ли связывать рождение сеньората на Руси с завещанием Ярослава Мудрого? Наконец, в какой мере замысел Ярослава, если таковой имел место, осуществился, то есть каково реальное место «ряда» Ярослава в эволюции древнерусского старейшинства?
На все эти вопросы нельзя дать вполне определенного ответа, исходя только из древнерусских материалов, в то время как сравнительно-исторические наблюдения позволяют прийти к достаточно обоснованным, на наш взгляд, заключениям. Оставляя пока в стороне последний, третий, из поставленных вопросов, обратимся к двум первым.
История развития corpus fratrum (в частности у франков) показывает, что рано или поздно в развитии государственности и самосознания государственной власти настает момент, когда традиционная практика родовых разделов вступает в противоречие с представлением о государстве как политическом единстве. При первоначальном архаичном братском совладении как раз это последнее и служило в глазах социальной верхушки проявлением государственного единства, которое, собственно, не имело другого выражения, кроме единства правящего рода, династии[8]. До поры все новые переделы внутри единого рода не приводили к разделу государства ввиду неустойчивости и временности самих возникавших политических структур, иногда настолько лоскутно пестрых, что они, совершенно очевидно, были не приспособлены, да и не предназначены для самостоятельного политического существования (таковы, например, разделы Франкской державы в 562 г. после смерти короля Хлотаря I или в 567/8 г. после кончины его сына короля Хариберта I[9]).
Но роковой порок corpus fratrum был заложен в самой его патримониальной природе. Возникавшая время от времени вследствие благоприятной династической конъюнктуры устойчивость того или иного удела не могла не приводить к столкновению между принципом родового совладения и идеей отчинности удела, которая была столь же неотъемлемой частью патримониального сознания, как и родовое совладение, являясь, в сущности, продлением последнего до уровня удела[10]. Это естественным образом вело к попыткам создания такого династического порядка (включая способ престолонаследия), который сочетал бы традицию родового совладения, то есть принцип непременного наделения всех братьев, с некоторой институционализацией единовластия. Подобного рода усовершенствованной формой corpus fratrum и у франков, и на Руси, и в других раннесредневековых государствах (о некоторых из них ниже пойдет речь) как раз и стал сеньорат.
Важно понять, что сеньорат не создавал понятия генеалогического старейшинства, которое, будучи семейно-родовым по природе, всегда существовало в рамках corpus fratrum, а только придавал ему, старейшинству, те или иные общегосударственные политические прерогативы. При первоначальном родовом совладении старший из сыновей отнюдь не наследовал политической власти покойного отца, так что разделы между братьями не сопровождались установлением какой-либо политической зависимости младших от генеалогически старейшего. Так, в неурядицах 60-70-х гг. VI в. по смерти короля Хариберта I потомки Хлотаря I (511–561) нередко прибегали к авторитетному суду короля Гунтрамна (561–592), который остался старшим в роду после Хариберта, но этот чисто родовой авторитет не был облечен в политико-государственные формы, в какую-либо верховную власть Гунтрамна над младшими братьями Сигибертом I (561–575) и Хильпериком I (561–584) или, впоследствии, над их потомством. Политически братья были совершенно независимы друг от друга, и это политическое равенство только подчеркивалось старательно выверенным равенством их уделов[11]. И даже раздел, предусмотренный пространным политическим завещанием Карла Великого – «Размежеванием королевств» («Divisio regnorum»), которое было издано в 806 г. в качестве отдельного капитулярия, имел в виду примерно равное наделение трех имевшихся на тот момент сыновей императора – Карла, Пипина и Людовика, ничего не говоря о каком бы то ни было верховенстве старшего, Карла, над младшими[12]. Это молчание тем более показательно, что, в отличие от упомянутых выше родовых разделов VI в., Карл единолично наследовал коренные франкские территории между Соммой и Луарой (так называемую «Франкию» – Francia), которые первоначально подвергались особому разделу между всеми наследниками[13]. Поэтому, возвращаясь к Руси, думаем, правы были те историки, которые считали, что никакой определенной государственно-политической зависимости младших сыновей киевского князя Святослава Игоревича – Олега Древлянского и Владимира Новгородского – от своего старшего брата Ярополка Киевского (972–978) не было[14]. И тот факт, что старшему брату достался «старший», киевский, стол и в целом Русская земля в узком смысле слова[15] (как Карлу – коренная Франкия), еще никоим образом не свидетельствует в пользу сеньората Ярополка, как иногда думают, считая сеньорат на Руси исконным обычаем и тем ставя под сомнение политическое новаторство «ряда» Ярослава[16]. Более того, раздел Руси между Святославичами в 969 г., закрепившийся после внезапной гибели Святослава в 972 г., стоит в одном ряду вовсе не с разделом 1054 г., а с распределением уделов киевским князем Владимиром Святославичем (978-1015) между своими подросшими сыновьями, о котором «Повесть временных лет» сообщает в конце статьи 6496 (988) г.[17] Ведь наделение Святославичей не было предсмертным завещанием их отца, а произошло в связи с планами Святослава перенести свой стольный град из Киева в Переяславец на Дунае, сохраняя, естественно, верховную власть над Русью[18].
Таким образом, сеньорат не тождествен генеалогическому старейшинству и, в отличие от последнего, требовал целенаправленной реформы традиционного родового совладения. Понятно, что подобная реформа, именно вследствие того, что меняла обычный династический порядок, должна была иметь какое-то законодательное оформление, хотя и необязательно письменное, документальное. У франков таковым стало первое завещание императора Людовика Благочестивого (814–840) – «Устроение империи» («Ordinatio imperii») 817 г., согласно которому старший из сыновей Людовика, Лотарь (будущий император Лотарь I), наследовал не только императорский титул отца, но и львиную долю владений последнего, тогда как двум его братьям доставались относительно небольшие уделы: Пипину – Аквитания, Людовику – Бавария[19]; хотя младшие братья и титуловались королями, но должны были признать верховную власть Лотаря[20]. В Древней Руси на роль аналогичного этапа в эволюции династического строя может претендовать только «ряд» Ярослава и никоим образом какие-то предшествующие династические решения – Святослава Игоревича (см. выше) или Владимира Святославича[21]. Кроме того, форма сеньората, предусмотренного «рядом» Ярослава, была столь умеренной и компромиссной[22], что трудно представить себе какую-то более раннюю и, соответственно, более мягкую его стадию. Старейшинство Изяслава Ярославина прямо прокламируется, и несмотря на то что общерусские политические прерогативы киевского князя не описаны с полнотой, сравнимой с капитулярием Людовика Благочестивого, ясно, что они в том или ином объеме предусматривались, коль скоро Изяслав был призван служить гарантом устанавливаемого династического порядка – ведь именно ему «ряд» вменяет в обязанность «помагати, его же обидять». Тем самым, с точки зрения типологии corpus fratrum, содержание «ряда» Ярослава, как оно передано в «Повести временных лет», сомнений не вызывает, и это может служить косвенным свидетельством достоверности летописного рассказа против высказывающихся иногда предположений, что завещание Ярослава Мудрого в целом или отчасти является стилизацией более позднего времени[23], чуть ли не первой четверти XII в.[24]
Если сеньорат по «ряду» Ярослава представлял собой закономерную форму в эволюции княжеского родового совладения на Руси, то следовало бы ожидать, что типологические параллели ему будут обнаруживаться не только у франков, но и в других европейских династиях, построенных на corpus fratrum.
Действительно, в отечественной литературе вскользь уже указывалось на сходство «ряда» Ярослава с некоторыми династическими установлениями Древнечешского и Древнепольского государств, а именно с завещаниями чешского князя Бржетислава I (1034–1055) и польского князя Болеслава III (1102–1138)[25]. Так как распоряжения относительно династического строя и престолонаследия, предпринятые в этих завещаниях, имели в виду ту или иную форму сеньората, то уже поэтому они могут быть типологически сближены с завещанием Ярослава Владимировича. Не вдаваясь в детали, мы в свое время поддержали такую аналогию[26]. Сейчас видим, что она нуждается в существенных уточнениях. Рассмотрим теперь этот вопрос подробнее, начав с завещания Бржетислава I как хронологически наиболее близкого к «ряду» Ярослава.
Вот что читаем в «Чешской хронике» Козьмы Пражского (первая четверть XII в.) – единственном источнике, сообщающем об этом завещании: на смертном одре чешский князь обращается к представителям знати («terrae primates») с признанием, что, имея пятерых сыновей, «он считает вредным делить между ними Чешское княжество» и потому обязывает их (знать) присягнуть, «что верховное право и престол в княжестве будут всегда принадлежать старшему по рождению среди моих сыновей и внуков и что все его братья и те, кто происходят из рода государя, будут под его властью. Поверьте мне, если этим княжеством не будут управлять единовластно, то для вас, людей знатных, дело дойдет до погибели, а для народа – до больших бед»[27].
В отличие от «ряда» Ярослава, который даже в летописном пересказе сохраняет характер делового распоряжения и вполне узнаваемые черты завещательного формуляра[28], завещание Бржетислава в «Чешской хронике» сплошь состоит из литературных и исторических аллюзий (на библейское предание о Каине и Авеле и древнеримское – о Ромуле и Реме), а также прямых цитат (из Вергилия, Лукана, Овидия, «Псалтири»)[29], характерных для стиля Козьмы. Вряд ли приходится сомневаться, что завещание Бржетислава I, в настоящем его виде, является плодом литературного творчества самого Козьмы Пражского. Распознать существо династической реформы Бржетислава, если таковая действительно имела место, за риторической пеленой, наброшенной стилизованным изложением Козьмы, крайне трудно. И все же ясно, что в завещании имелась в виду какая-то радикальная форма сеньората, коль скоро речь идет о «единовластии» «старшего».
Однако признать сам факт попытки Бржетислава I преобразовать династический строй Древнечешского государства в русле сеньората еще не значит признать, что сеньорат был завещанием Бржетислава учрежден. Можно было бы, конечно, не придавать большого значения заверениям Козьмы Пражского, писавшего много десятилетий спустя, что пражский князь середины XI в. отказывался от любых форм раздела, желая ввести «единовластие». Вместе с тем, ряд соображений заставляет отнестись к этим заверениям серьезно.
Козьма вкладывает в уста Бржетиславу в качестве аргумента ссылку на губительность памятных для чешской княжеской династии раздоров между братьями святым Вячеславом (Вацлавом) (убит в 929/35 г.) и Болеславом I (умер в 967/72 г.). Но отношения между этими последними, как они рисуются в памятниках свято-вацлавского цикла, не отличаются от взаимоотношений пражского князя со своей родней во времена Козьмы, когда младшие князья располагали уделами – обычно в Моравии, реже собственно в Чехии – будучи под верховной властью старшего, занимавшего пражский стол[30]; точно так же, когда Вячеслав стал пражским князем вместо умершего отца, «оттоле Болеслав нача под ним ходити», хотя и имел собственный «град Болеславль» (который обычно идентифицируется со Старым Болеславом, центром присоединенной к Праге области племени пшован на правобережье Верхней Лабы-Эльбы).
Эти слова древнейшего церковнославянского «Жития святого Вячеслава»[31], разумеется, могут быть и проекцией позднейших династических порядков на ситуацию 920-х гг. (Вратислав I, отец Вячеслава и Болеслава I, умер в 921 г), но порядков, в свою очередь, вряд ли более поздних, чем сложившиеся к 70-м гг. X столетия, когда, как считается, вероятнее всего, было создано «Житие»[32] (впрочем, существуют и более поздние датировки). В таком случае установление сеньората в Чехии пришлось бы, видимо, связывать с именем Болеслава I. Источникам известны только двое его сыновей – Болеслав II и некий Страхквас (Ztrahquasz), или Христиан[33], которого отец еще ребенком отдает в монастырь святого Эммерама в Регенсбурге – будто бы во искупление своей вины в убийстве брата[34]. Такой шаг был бы крайне опрометчивым, если бы у Болеслава II не было других братьев. Скорее всего отец видел в Страхквасе будущего пражского епископа, как Бржетислав I – в Яромире, что и подтверждается позднейшей попыткой поставить Страхкваса на кафедру вместо святого Адальберта-Войтеха[35]. Если так, то молчание источников о младших братьях Болеслава II можно было бы рассматривать как косвенное свидетельство ярко выраженного сеньората пражского князя.
В самом деле, династическая история Пржемысловичей до Бржетислава I в хронике Козьмы изложена с большими пробелами, а иногда и просто неверно. Так, одиозные для княжеского рода кровавые междоусобия в предшествовавшем Бржетиславу I поколении сыновей Болеслава II (967/72-999) приходится восстанавливать исключительно по иностранным источникам – прежде всего, по хронике их современника Титмара Мерзебургского. О конфликте Болеслава III (999 – около 1003) вскоре после 999 г. с младшими братьями Яромиром и Олдржихом Титмар сообщает в выражениях, которые заставляют предполагать, что последние располагали собственными уделами: «Между тем (речь идет о событиях 1002 г. – А. Н.) чешский герцог Болеслав, так как власть соправителя и преемника всегда подозрительна, оскопив брата Яромира, а младшего Олдржиха хотев было утопить в бане, изгнал их из страны вместе с матерью и стал править один, наподобие губительного василиска несказанно притесняя народ»[36]. Правда, характер взаимоотношений между пражским князем и его младшими братьями из процитированного сообщения не вполне понятен, тем более что слова «так как власть соправителя и преемника всегда подозрительна» являются цитатой из Лукана[37]. Эти взаимоотношения несколько проясняет другое сообщение саксонского хрониста, в котором Олдржих назван «вассалом» (satelles) Яромира, к тому времени (речь идет о 1012 г.) уже давно, с 1004 г., занимавшего пражский стол вместо изгнанного Болеслава III[38].


