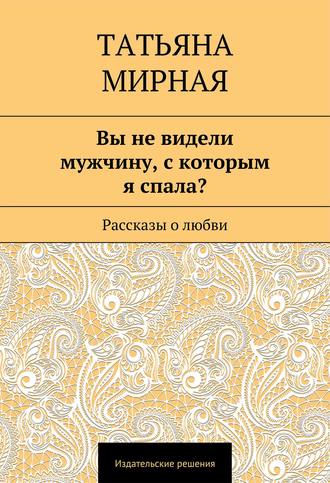
Полная версия
Вы не видели мужчину, с которым я спала? Рассказы о любви

Вы не видели мужчину, с которым я спала?
Рассказы о любви
Татьяна Петровна Мирная
Татьяна Петровна Мирная Редактор
© Татьяна Петровна Мирная, 2017
ISBN 978-5-4474-0094-1
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Соседка
Умерла соседка баба Уля. Было ей восемьдесят четыре года. Жили мы рядом лет тридцать. Дружили столько же, и за все время ни разу друг на друга не обиделись и не поругались.
Была баба Уля очень дружелюбной и «подельчивой». Угощала нас огурчиками и помидорами, которые у нее почему-то созревали недели на две раньше, чем у нас. Ловила рыбу в речке, что протекала неподалеку от нашего села и приносила к ужину уже жареную, щедро присыпанную мелко порезанным зеленым луком. Весной несла букеты сирени и тюльпанов с нарциссами, а осенью украшала нашу жизнь хризантемами, которые продолжали цвести у нее и под снегом.
Мои дети очень привязались к ней и называли бабушкой. Я рано осталась без матери, и баба Уля мне частично заменила ее, во всяком случае, я всегда была рада своей соседке и искренне к ней относилась. Была она одинока, правда, изредка к ней приезжала какая-то внучатая племянница, но последние лет десять она «глаз не казала». Так мы и жили: баба Уля у нас ужинала, мылась в бане, приглядывала за детьми и домом, помогала по мере возможности, но и мы ее не оставляли без внимания и заботы.
Жила она в низенькой хате, состоящей из двух комнат – «большой» и «маленькой». В большой стояла кровать с никелированными спинками и пружинистой сеткой, на которой властвовала огромная перина и четыре подушки: две больших и две маленьких. Над кроватью висел шерстяной узорчатый ковер – подарок за многолетний и добросовестный труд в местном колхозе, чем соседка по праву гордилась. В одном углу комнаты стоял старый шифоньер из фанеры, а в другом, напротив, полированный сервант, купленный бабой Улей лет на тридцать позже шифоньера. Сервант, кроме посуды, старенькой и однообразной, украшало множество открыток и сувениров, которые мы дарили соседке к праздникам и в день рождения. Еще в большой комнате на тумбочке для белья стоял черно-белый телевизор, который баба Уля смотрела редко: летом некогда, а зимой она коротала вечера у нас. Комната была чистая и светлая. Два больших окна щедро пропускали божий свет в старушечью обитель. Деревянный пол был устлан малиновыми шерстяными половиками, которые продавались в каждом сельском магазине лет тридцать назад. В маленькой комнате стоял старинный неуклюжий комод, многочисленные ящички которого были набиты всякой всячиной. В углу примостилась маленькая скамеечка, на которую взгромоздился мешок с сахаром – признак благополучия и сытости, по мнению бабы Ули. Сахар в мешке никогда не кончался с тех самых пор, когда сей продукт перестал быть дефицитом. Очень редко баба Уля брала из этого мешка сахар, так как у неё всегда в столе было ещё не меньше пяти килограммов.
На деревянной самодельной вешалке с четырьмя рожками висел повседневный гардероб соседки. Бабушка была небогатой, но она и не переживала по этому поводу, всякий раз говоря: «Слава Богу, хватает на хлеб и на сахар, и на том спасибо».
Умерла баба Уля во сне, никому не доставив хлопот. Мы хватились её утром, когда я, проснувшись пораньше, не услышала во дворе её разговора с курочками и котом Маркизом. Хохлатки были заперты в курнике, а рыжий проказник тоскливо сидел на пороге бабушкиной кухни. Я ещё надеялась, что баба Уля жива, когда в холодном поту открывала дверь запасным ключом, который соседка всегда оставляла у нас «на всякий случай». И вот этот случай наступил.
Хоронили бабу Улю всей улицей. Отметив сороковины, принялись разбирать вещи, так как завещала свой маленький домик соседка нам. В одном из ящиков комода я наткнулась на потертую ученическую папку, в которой были какие-то бумаги. Я стала внимательно рассматривать их. Пенсионное удостоверение, паспорт, справка о реабилитации, желтая, на сгибах выцветшая, выданная почти пятьдесят лет назад. За что сидела баба Уля? Почему об этой странице своей жизни не только никогда не рассказывала, но даже не намекала? Хотела ли навсегда вычеркнуть ее из жизни или больно было от воспоминаний? Я задумалась и продолжала перебирать бумаги соседки.
Полоска обертки ученической тетрадки. Крупным детским почерком выведено: «Бабушка, я люблю тебя». Конечно, без запятой. Это писал мой младший сын, едва освоив грамоту. Он признавался в любви всем: сестре, брату, мне, папе, родной бабушке и, оказывается, бабушке Уле. Он учился тогда в первом классе, сильно простудился, сидел дома, мне надо было работать, и я попросила бабу Улю за ним присмотреть. Сын писал свои записки на обрывках газет, на конфетных обертках и тетрадных листочках. Не сохранилось ни одной, а баба Уля хранила эту полосочку пятнадцать лет. Значит, дорога была…
Я увидела пожелтевший лист А-4, сложенный вчетверо. Это было завещание, составленное по форме, заверенное нотариусом, написанное десять лет назад. Мы же узнали о волеизъявлении своей соседки незадолго до ее смерти. Почему она столько лет молчала? Может, боялась обидеть. Понимала, что не хоромы завещает. Стеснялась. Она ведь скромной была, добро старалась делать незаметно. Я отложила в сторону документ, подтверждающий наше право на наследство.
Следующими были «платежи» – так баба Уля называла плату за свет, воду и газ. Книжки все были в порядке, оплата всегда производилась в срок, первого числа каждого месяца. Умерла она пятого, выходит, на месяц вперед рассчиталась с нашими олигархами, никому ничего не должна. Вместе с расчетными книжками выпала потускневшая черно-белая фотография 9х12, на которой был снят неизвестным фотографом молодой парень в белой косоворотке, с аккуратной короткой стрижкой и напряженным взглядом. На обратной стороне надпись химическим карандашом: «На долгую и вечную память Улечке от Николая». Почему эта фотография лежала отдельно, ведь рядом, в небольшом ящике комода, лежал альбом. Пусть фотографий в нем было немного, но все они аккуратно, с любовью, заправлены в уголочки, подписаны и даже даты стояли. А эта хранилась отдельно… Кто он, этот молодой человек? Не тот ли, из-за любви к которому соседка так и не вышла замуж?
Я задумалась, а между тем, уже листала ученическую тетрадку, которая вся, от начала до конца, была исписана мелким убористым почерком бабы Ули. До войны она успела закончить семь классов, училась в школе хорошо, чем очень гордилась и всегда подчеркивала: «Вот мама моя была неграмотная, а я обучилась грамоте». Я стала читать: «О Пресвятая владычица, Дево Богородице, спаси и сохрани под кровом Твоим моих чад… И далее красной пастой были перечислены имена членов всей моей семьи. У меня бешено заколотилось сердце, я продолжала читать: «Укрой их ризою Твоего материнства, соблюди их в страхе Божием и в послушании родителям, умоли Господа моего и Сына Твоего, да даруй им полезное ко спасению их. Вручаю их Материнскому смотрению Твоему, яко Ты еси Божественный Покров рабам Твоим. Достойно есть яко воистину блажити Тя Богородицу. Присноблаженную и Пренепорочную и Матерь Бога нашего, честнейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим, без истления Бога слова рожденную, сущую Богородицу Тя величаем». Я плакала, благодарные слезы сами лились из моих глаз. «Царствие небесное тебе, дорогая моя вторая мама, спасибо, что ты была столько лет рядом, что молилась за нас. Мы всегда тебя будем помнить и молиться за тебя». Я перевернула страницу, был тот же самый текст, он повторился двенадцать раз. А на тринадцатой странице была написана другая молитва. В ней она просила Богородицу спасти и сохранить Николая. И тоже переписанная двенадцать раз.
Последним в папке был старый конверт, а в нем письмо, датированное 3 июня 1989 года. Письмо было из Бразилии. Он писал, что долго помнил о ней, но приехать не мог. Затем женился, родил троих детей, имеет свой дом и небольшое дело. «Прошлое не вернуть, Уля, напиши, как ты жила эти годы, есть ли у тебя дети? Я каждый день в молитвах упоминаю тебя, прошу у Господа для тебя защиты и утешения. Прости за то, что ты пострадала из-за меня. Пожалуйста, прости». И подпись: «Всегда твой Николай».
Кусай
У него было странное имя – Кусай. Сначала я думала, что это прозвище, но однажды, покупая на маленьком сельском базарчике большую ароматную айву, я услышала, как он, грозя кому-то невидимому пальцем, обидчиво говорил: «Раз Кусай не начальник, то его можно обижать, да? Кусай все стерпит, Кусай молчать будет» И его маленькое сморщенное лицо от горечи и обиды стало еще меньше, он вытер грязным кулаком слезу, набежавшую, может быть, от ветра, который в нашей степи дул круглый год, и через мгновение, улыбаясь, рассказывал бабе Ганушке:
– А я говорю Николаю Ивановичу, давай меняться жинками, твоя Галя и моя Галя, моя чай калмыцкий варить может, а твоя нет, а ты же любишь калмык-чай. А он смеется, сказал, что подумает. Я вот тебя хочу спросить, Ганушка, как ты думаешь, поменяется Казак со мной жинкой или нет? – хитро прищурив один глаз, спрашивал Кусай.
Казаком у нас в селе звали директора совхоза, может быть за его взрывной характер, за то, что любил рубить с плеча, был горяч, но справедлив. Любил шутку, с ним запросто мог общаться такой никчемный мужик как Кусай. Но если дело требовало дисциплины, тут Казак был крут, его уважали и побаивались в селе. Жена его, Галина Александровна, была сельским врачом, доброй, внимательной, мягкой – настоящий профессионал. До обеда она принимала больных в амбулатории, а после обеда и до позднего вечера посещала на дому. Машины в амбулатории не было, и Галина Александровна в любую погоду с неизменным чемоданчиком в руках спешила на помощь к односельчанам. Вот так однажды она попала в дом Кусая, когда заболела его жена Гульнара. Мужику так понравилась обходительность доктора, что он тут же перекрестил свою суженую Галиной Александровной и даже предложил Казаку обмен. Долго в селе смеялись над предложением Кусая, но это был беззлобный, веселый смех.
Кусая у нас любили за незлобивый характер, за юмор, за душевную простоту. Был он одним из самых бедных мужиков в селе, работал от случая к случаю, чаще болтался по улицам,
вступая в разговоры то с одним, то с другим. Ходил и летом, и зимой в фуфайке и шапке-ушанке, только летом фуфайка его была распахнута, а зимой застегнута на все пуговицы и подтянута солдатским ремешком, а шапка летом была с заломленными обоими ушами, а зимой было открыто только левое ухо, так как на правое ухо Кусай был глух. На ногах его были не поддающиеся износу кирзовые сапоги и простые, давно потерявшие свой первоначальный цвет брюки, подвязанные бечевкой. Кусай был легок на подъем и уже ранним утром можно было встретиться с ним, услышать его громкое приветствие и перекинуться парой веселых фраз, которые, записывай их кто-нибудь, могли бы запросто стать афоризмами.
– Привет, Кусай. Как дела? – обычно спрашивал мой отец. Они вместе с ним некоторое время работали на стрижке овец, папа – наладчиком стригальных машинок, а Кусай подавал овец стригалям.
– Как у той овцы, которой полбока оттяпали, а она думает: «Хорошо, что голова цела».
Жили они с женой в небольшом низеньком саманном домике, который был целый день распахнут для знакомых и незнакомых людей. Жена его варила калмыцкий чай и целый день распивала его с подругами и соседями. Кто никогда не пил этот полезнейший напиток, много потерял. Готовился чай по-особому рецепту с добавлением молока, сливок, даже сливочного масла, соли, горького перца, обладал необыкновенным ароматом, насыщал человека не меньше, чем русский борщ. У Кусая в доме было шаром покати, но ни он, ни его жена по этому поводу совершенно не переживали. Из того, что у нас в селе считалось богатством в то время, у них была только корова белой масти, с огромными блестящими черными глазами и с выменем, как цибарка, по словам завистников. Корову Кусай любил, добывал сено, выпрашивая трактористов тайком забросить ему на двор пяток тюков, пас по очереди с соседями и даже, бывало, разговаривал с ней.
– Ты хорошая корова, я тебя никому не отдам, теленка отдам, а тебя нет. Ты прости, что я теленка продам, Галина Александровна болеет, надо лекарство купить, а денег нет. Я теленка продам – куплю лекарство. Спасибо тебе за молоко, мы чай варим, вот и сыты.
Корова слушала, лизала с грязной Кусаевой ладони соль, мотала головой и хвостом, отгоняя мух, и молча жевала жвачку. Она опять ждала теленка, Кусай это точно знал: обычно худая, она на глазах начинала поправляться, когда готовилась стать матерью. Вот и сейчас бока ее округлились, но до счастливого события еще было далеко. Был июль, а отелиться корова должна была зимой, поэтому Кусай не говорил о предстоящем событии даже жене, боясь сглазить.
То лето выдалось в наших краях сухим и жарким, уже третий месяц не было дождя. Ногайцы, которые занимались в основном скотоводством, были в отчаянии. Степь выгорела, овцы и коровы щипали бесполезную сухую траву, но и от той вскоре остались одни былинки. Они пошли к мулле. Тот и сам был готов на все, чтобы выпросить у Аллаха живительную влагу, поэтому решил принести в жертву белую корову. Белая корова была в селе только одна, и делегация во главе с муллой пришла к Кусаю. Он понял сразу, зачем к нему пришли кунаки и молча вывел корову из стойла, а сам, натянув поглубже шапку-ушанку и опустив оба уха, пошел туда, куда вели его непослушные ноги.
Единственная в селе женщина-шофер, отчаянно сигналя, до последнего не верила, что идущий по пыльной дороге Кусай ее не слышит. Обычно он останавливался, приветливо махал рукой, улыбался, цокал языком, всякий раз удивляясь: «Ай-ай-ай, Тамарка, зачем села за руль? У тебя же муж есть. Непорядок. Женщина должна дома быть и чай варить».
Он лежал на дороге, широко раскинув руки, шапка-ушанка отлетела далеко в сторону и собравшийся народ наконец увидел черные с проседью волосы Кусая, которые перебирал легкий ветерок. В открытых голубых глазах был не испуг, нет: в них застыл немой вопрос, который был обращен… А впрочем, какая теперь разница, кому был предназначен вопрос.
Записка
Умирала мать. Ее желтое исхудавшее тело лежало почти неподвижно на кровати под белой простыней. Она уже не чувствовала боли и даже, когда ей делали уколы, не вздрагивала как обычно. Сил у нее осталось только на то, чтобы поднять сухую жилистую руку с обвисшей кожей и костлявыми полусогнутыми пальцами кого-то молча звать. Дети подходили, брали ее руку, еще теплую и родную, гладили, пытались спросить, кого она зовет, но она, тяжело приподняв веки, мутными глазами обводила вопрошающего и опять обреченно закрывала их. Она уже неделю ничего не ела и почти не пила. На столике рядом с кроватью стояли напитки в трех разных кружках: в одной чай, в другой – компот, в третьей – вода, содержимое постоянно менялось, но мать отказывалась от пищи. Только однажды, подозвав сына, мать долго слипшимися непослушными губами объясняла сыну, чего она хочет. Наконец он смог разобрать просьбу матери:
– Огурчика солененького хочу, – несколько раз повторила она и даже попросила приподнять ее.
Младший сын полез в погреб за огурцами, но там не оказалось ни одной банки. Да и откуда им было взяться? Мать заболела в мае, на исходе был июль, сезон огуречный прошел, и хоть уродили огурцы в этот год неплохо, но закручивать их было некогда, поэтому сын завел машину и поехал к тетке, сестре матери, за огурцами. Та обрадовалась, кроме соленых, еще и свежих (только что с грядки) сунула в машину на переднее сиденье, да и хлебушка домашнего булочку: «Вдруг Наташа захочет, ведь она так любит хлеб».
Вэто время старший сын, обрадованный просьбой матери, готовил ее к трапезе: приподнял на кровати, причесал мягкие послушные волосы, обтер мокрым полотенцем лицо и руки.
Когда младшенький принес на тарелке два маленьких темно-зеленых пупырчатых огурчика, слабо пахнущих уксусом и укропом, мать зажала огурец в руке и принялась жадно сосать его, как конфету, причмокивая и судорожно глотая рассол.
– Мама, может тебе рассольчику в стакане принести? – с надеждой спросил старшенький.
– Не надо, – устало ответила мать, – наелась уже, спасибо, сынок.
Иположила целый огурец на тарелку, тяжело вздохнула и прикрыла глаза. Больше к банке с огурцами никто не притронулся, в холодильник поставить забыли, так и скисли они на столе в кухне.
Больше мать ни о чем не просила. Она лежала неподвижно то на одном боку, то на другом, то на спине – дети периодически переворачивали ее, чтобы не было пролежней.
Почти два месяца прошло с того времени, как она слегла. Сначала мать пыталась бороться с недугом, свалившим ее, выполняла все рекомендации врачей, пила горстями таблетки, покорно подставляла тело для инъекций, но улучшения не было.
– Почему, сынок, мне все хужей и хужей? – обращалась она к сыну, когда тот садился у ее изголовья. – Сколько я химии этой проклятой приняла и ничего не помогает. А денег сколько вы истратили! Вон вся тумбочка уставлена этими лекарствами, а толку?
Тумбочка, стоящая у окна, действительно была заставлена коробочками и тюбиками, пузырьками и таблетками, но она не знала еще, что и два ящика тумбочки были плотно набиты аптекарским товаром, оттого в комнате пахло больницей и безнадежностью.
Через месяц, прикованная к постели, мать почти перестала спрашивать о выздоровлении, она смирилась с приближением конца и стала просить почитать Библию. Эта книга, большая и тяжелая, досталась ей бесплатно от какой-то благотворительной организации лет десять назад, и она в последние годы читала только ее и ЗОЖ., который теперь аккуратной стопочкой лежал на подоконнике. Каждый номер был прошит белыми нитками, наиболее интересные и нужные рецепты выделены красной пастой. Последние десять лет, после первого инсульта, мать лечилась сама по рецептам этого народного лекаря. Посадила в огороде различные лекарственные травы, делала настойки и отвары и подолгу пила то с медом, то с орехами. Давление пришло скоро в норму, и мать жила, почти не болея.
Дочка брала Библию, читала, но недолго: надо было стирать, гладить, готовить, мести двор, словом, забот хватало. Видя, что дочь нервничает, а может, потому, что уставала слушать, мать отказалась и от этой радости.
Она лежала молча и о чем – то думала. Может, прокручивала, как в киноленте, свою нелегкую жизнь? Ссылка, война, голод, замужество, потери близких, рождение детей и внуков, работа с раннего утра до позднего вечера, тревоги и радости – все, как у любой русской женщины.
Иногда она задавала явно волнующий ее вопрос:
– А как там мои цветочки?
– Ничего, мама, растут, – отвечала дочь, – рыхлим, поливаем, не волнуйся, поднимешься – увидишь.
Мать согласно кивала головой. Цветов у нее во дворе и в саду было великое множество. Зная ее пристрастие, и дети, и соседи, и родственники делились с ней семенами, корешками, клубеньками, росточками. И из самого захудалого росточка у нее всегда вырастал удивительный цветок. К бабе Наташе 25 мая и 1 сентября вся улица приходила за букетами. Особенно шикарными у нее выходили астры и хризантемы. Красные, синие, белые, цветы украшали ее двор с ранней весны до поздней осени. Она ухаживала за каждым цветочком как за ребенком и радовалась раскрывшемуся бутону так же, как ребенок радуется новой игрушке. Сзывала соседей посмотреть, как цветет царская корона или какой-нибудь редкий вид тюльпана. После смерти мужа, лет двадцать она жила одна, никому из детей не хотела становиться обузой, и цветы были для нее и лекарями, и собеседниками, и гостями, и детьми. Теперь же она подолгу смотрела в окно напротив кровати, но ничего не видела, кроме куста сирени, который давно отцвел, а листья его, густые и жирные, загораживали от матери все остальное пространство.
Приезжали внуки проведать бабушку, бабулю. Их у нее было семеро: четыре внучки и три внука. Старшие стеснялись проявлять свои чувства, сидели на стуле и смотрели на бабушку, коротко спрашивая и так же коротко отвечая:
– Бабуль, как дела?
– Плохо, – всегда отвечала она, (а совсем недавно говорила: лучше всех).
– Ты брось это, давай поднимайся, цветочки надо поливать, выздоравливай, пожалуйста.
– Хорошо, – покорно соглашалась она. – А у тебя как дела?
Выйдя же из комнаты, где лежала бабушка, внуки нервно курили, а внучки принимались рыдать.
Авот самый младшенький, любимый внучок, хоть и двадцать лет было ему, не мог сдержаться и на глазах его наворачивались слезы, когда он гладил руку бабушки и усердно прятал лицо, чтобы она не заметила слез
– Ничего, Владюша, все будет, внучок, хорошо, – утешала она его. – Как ты учишься?
– Хорошо, бабуль, – еле слышно отвечал внук. – Может, ты чего-нибудь хочешь?
– Уже отхотелось, – отвечала она и горько вздыхала.
Выйдя из комнаты, Владик обращался к матери:
– Мама, а бабушка умрет? Я почему-то никогда об этом не задумывался. Мне казалось, что она никогда не умрет.
– В таком возрасте редко поправляются, сынок. Ей ведь через месяц восемьдесят четыре будет. Да и веру она потеряла, не хочет выздоравливать.
Да, это было так. Ее измучила боль, которую лекарства останавливали лишь на время. Она не хотела быть обузой, так как видела, что дети ее все заняты мыслями о домах, которые им пришлось оставить в связи с болезнью матери, о работе, где пришлось брать внеочередной отпуск. Да и устали они, сами уже не молоды: старшей дочери почти шестьдесят, среднему сыну – пятьдесят пять, младшему совсем недавно пятьдесят отметили.
На улице стояла июльская жара. Правда, саманный домик дольше сохранял прохладу, но только ночью и утром, днем же было душно, хотя и работал вентилятор. Мать лежала под простыней совершенно голая, она стыдилась своей наготы, просила надеть ей ночную сорочку, но дети не надевали, так как боялись пролежней. Это ее мучило страшно до тех самых пор, пока она перестала понимать, что с нею происходит, стала путать имена, иногда сознание ее отключалось полностью, она переставала узнавать окружающих. Сползала простыня и обнажала уже почти плоскую грудь матери, когда-то вскормившую троих детей. Придя в себя, она натягивала простыню до самого подбородка, нервно мяла ее, и тогда обнажались худые синюшные ноги.
Господи, зачем ты устраиваешь такие испытания людям7 Неужели нельзя забрать к себе без боли, стыда и унижения, без страха и упрека, без мучений?
Все понимали, что близится финал. Первым о неизбежном заговорил старший сын:
– Надо подумать, как маму будем хоронить, – пряча измученные глаза, предложил он брату и сестре.
– Мама должна была приготовить себе на смерть, пойду, поищу, – тихо промолвила сестра.
Через некоторое время она вернулась с белым холщовым мешочком, туго завязанным бечевкой, словно мать, готовя его, не хотела, чтобы его скоро развязали. Наконец младший сын зубами развязал узел, и дочь стала вытаскивать содержимое. Сверху лежали, свернутые в трубочку, носовые платки. Они были разные: мужские и женские, новые и явно стиранные, аккуратно, фабрично подрубленные и с разлохмаченными краями.
– Это она по похоронам ходила и складывала те платочки, которые дают на похоронах, себе, – догадалась дочь. – Надо перебрать, может, какие и сгодятся. И достала аккуратно сложенные и перетянутые веревочкой фартуки для кухарок, которые будут готовить поминальный обед. Когда их разложили, наступило тягостное молчание.
– Боже мой, мама, неужели нельзя было купить новые фартуки? – растерянно произнесла дочь. Фартуки были собственноручно сшиты матерью на старенькой швейной машине «Подольск» из отцовских старых рубашек. Разного цвета, вылинявшие (отец работал агрономом, и рубахам доставалось немало от южного жаркого солнца), больше выгорела спина, поэтому фартуки были сшиты из передних полочек с пуговицами посередине.
Следующими лежали тапочки, и все дети переглянулись между собой. Тапкам этим было лет двадцать. Это были светло-коричневые, велюровые румынские тапочки без пяток, купленные в Москве в эпоху тотального дефицита. Дочь привезла их матери в подарок в 8 марта. Она их некоторое время носила в комнате, а потом…. оказывается, отложила…
Наконец платье. Чисто черное, тоже когда-то ношенное.
– Эх, мама, мама, при жизни во всем себе отказывала, и, даже о смерти думая, не захотела на себя тратиться, – заплакала дочь.
Кому, как ни ей, мать помогала больше всех, потому что одна растила дочь, потому что в проклятые девяностые научные работники были стране не нужны, и они не жили, а выживали. Мать делила пенсию, оставляла себе малую толику, только на «платежи», как она говорила, сама ходила завтракать и обедать к сыну, а на ужин порой один чай пила, месяцами себе ничего не покупала, но к дню рождения каждому внуку готовила подарочек. Вон листочек с именами и датами висит у нее на стенке под простенькой иконкой, приколотый канцелярской кнопкой, которые сохранились у нее еще с тех времен, когда она работала бухгалтером. Последними были записаны четыре правнука; появившиеся на свет один за другим.



