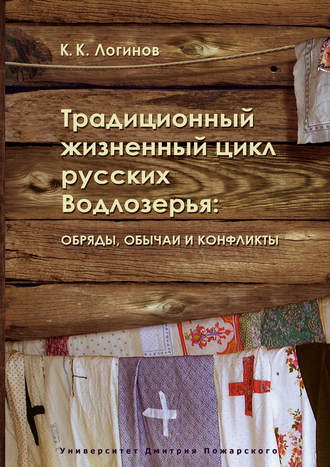
Полная версия
Традиционный жизненный цикл русских Водлозерья: обряды, обычаи и конфликты
2. Иерархические отношения традиционной семьи как основа решения внутрисемейных конфликтов
Комфортность проживания человека в крестьянской семье, его возможности влиять на внутрисемейные дела во многом зависели от индивидуального семейного статуса. Статус, в свою очередь, во многом зависел от пола, возраста, важности исполняемых хозяйственных функций и имущественных прав на общее достояние семьи, а в патриархальных семьях – также и от близости кровного родства к мужчине, стоявшему во главе такой семьи (Русские, 1997, с. 431–461). Если учесть, что в патриархальной крестьянской семье имела место практика «безусловного, безропотного подчинения младших членов семьи старшим, жен – своим мужьям, детей – своим родителям» (Русские, 1989, с. 94), то неудивительно, что лидерские роли в ней выстраивались в виде некой иерархической системы в зависимости от занимаемого семейного статуса.
На вершине иерархической пирамиды патриархальной крестьянской семьи пребывал мужчина, глава семьи («большак»), пока был в силах работать в поле, отдавать приказания домашним и следить за их неукоснительным исполнением. Быть главой такой семьи в деревне было почетно. Главенство, правда, накладывало также и серьезную ответственность за хозяйственную состоятельность семьи, за соблюдение внутри нее порядков, в том числе и касающихся непротиворечивого соблюдения статусных ролей отдельными членами семьи. Власть большака ограничивалась волей общего мнения всех взрослых членов семьи, состоящих в браке. Неограниченной властью над семейным имуществом и личной судьбой младших членов семьи, подобно главам патриархальных семей старообрядцев Урала и Сибири (Русские, 1989, с. 93, 94), большак в Водлозерье не обладал. Он не мог по своему усмотрению продавать жилище и скот, отдавать замуж девушек или женить парней, как ему одному было угодно. Невесткам не нужно было просить большака о благословении на то, чтобы наносить в дом воды или принести дров, и т. д. Несмотря на некоторую ограниченность власти, большак мог себе позволить многое. Так, большаку Сухову из Пильмасозера, проигравшему во времена НЭПа за одну ночь в биллиард при «казенке» в деревне Канзанаволоке лошадь и сани, все сошло с рук. Хотя члены семьи выразили ему свое негодование на семейном совете, смещать его не стали (ФА ИЯЛИ, № 3299/24). Но некоторые конфликтные ситуации, касающиеся внутренней жизни семьи, крестьянам приходилось выносить на суд всех родственников из ближайших деревень (семейного клана), на суд жителей деревни или всего крестьянского мира. Решение выносилось в соответствии с неписаными правовыми нормами обычного права. Глава патриархальной семьи по жалобам детей и их жен в случаях мотовства «мог попасть под контроль общины или вообще мог быть отрешен от руководства хозяйством» (Русские, 1997, с. 434).
Власть большак утрачивал, когда входил в возраст «дряхлости» (см. раздел 3 главы 1) и не мог уже выполнять свои прежние функции. В таком случае обязанности по его содержанию ложились на всю семью, а при ее разделе – на старшего сына. Обычай этот в этнографии называют обычаем «майората». В Водлозерье соблюдался именно этот обычай, тогда как у карел Сямозерья, например, господствовал обычай «минората», согласно которому обязанность по содержанию одряхлевших родителей ложилась на их младшего сына (История и культура, 2009, с. 154). Одряхлевший старик воспринимался как «лишний рот» и откровенная обуза для семьи. Так что бывшему главе патриархальной семьи оставалось апеллировать только к общине и общественному мнению, если в родном доме члены семьи отказывались его содержать до самой смерти (Громыко, 1986, с. 105). Лишь мнение всей крестьянской общины, большинства ее высокостатусных членов подавляло амбиции взрослых членов одной отдельно взятой неразделенной семьи, склоняло их к конформизму в вопросах урегулирования внутрисемейных конфликтов, связанных с содержанием лиц, устранившихся от управления семьей по причине болезни или преклонного возраста.
Вторым по значимости статусом после большака в патриархальной семье обладал его старший сын. Женатые сыновья имели более высокий семейный статус, чем холостые. Зятю-примаку, которого новая семья воспринимала как чужака, в патриархальной семье требовалось значительное время, чтобы завоевать авторитет и равноценный с сыновьями большака статус. Бывали, правда, исключения. В Карелии широко известен достоверно зафиксированный факт: родоначальник самой знаменитой заонежской династии исполнителей былин Т. Г. Трофимов-Рябинин, придя примаком в чужую семью, быстро занял в ней главенствующее положение большака, несмотря на присутствие в ней родных братьев тестя (Криничная, 1995, с. 29, 31 и след.).
Жена большака («большуха») была главной среди женщин в патриархальной семье, обладала среди них наиболее высоким статусом, который утрачивался обычно со смертью ее мужа. Жена старшего сына была первой помощницей свекрови, считалась главной среди снох. Рядовые невестки в патриархальной семье имели более низкий семейный статус. Особенно много требований предъявлялось младшей снохе. Если свекровь обижала сноху, то муж не мог даже заступиться за жену, а только утешал ее. Так что семейный статус взрослых незамужних дочерей патриархальной семьи (золовок) изначально превышал статус молодой снохи. Пренебрежительное к себе отношение снохи испытывали в первую очередь от сестер мужа. Это отразилось в фольклоре Водлозерья. Например, в частушке: «Я выбираю, девушка, ни коней, ни коровушек, я выбираю, девушка, семейку без золовушек» (НАКНЦ, ф. 1, оп. 1. колл. 184/56). Иными словами, относительно безбедному существованию в неразделенной семье девушка видит ясную и приятную для нее альтернативу жить в малой семье, пусть и бедной, но с одним лишь мужем, без его незамужних сестер, зловредных «золовушек». Наличие же в новой семье деверей – женатых или неженатых братьев мужа – в Водлозерье обычно не воспринималось как несчастье для женской судьбы: деверья относились к женам братьев с большим сочувствием и пониманием, чем золовки. И это тоже нашло отражение в местном фольклоре: «Не ходите, девки, замуж, заболит головушка. Лучше деверя четыре, чем одна золовушка» (НАКНЦ, ф. 1, оп. 6, д. 710, л. 23). Самым незавидным был в большой семье статус младшей снохи – ей доставалась самая трудная и грязная работа по домашнему хозяйству, а времени на сон и отдых отводилось меньше, чем тем женщинам, которые пришли в дом по замужеству раньше. Об этом свидетельствует вторая половина старинной водлозерской пословицы: «Горе быть старшей сестрой да младшей снохой» (НАКНЦ, ф. 1, оп. 1, колл. 133/220). Положение снох в патриархальной семье со временем изменялось. Рождение детей повышало их статус в семье, зато рождение внебрачного ребенка, невыход замуж и, как следствие, переход из категории «невест» в категорию «старых дев» ущемляли прежний высокий статус родной дочери в своей семье. Свои коррективы в перераспределение статусных ролей в неразделенной семье вносило негласное соревнование между собой снох. Амбициозные снохи предпринимали немало усилий, чтобы именно их мужья претендовали на роль следующего в семье большака, а сами они – на роль большухи. Иногда место большухи в неразделенной большой семье водлозеров могла занять и младшая сноха, но обязательно боевая и властная особа (АНПВ, № 2/73, л. 14). Это хотя и считалось нарушением обычного права, но не очень осуждалось. Считалось, что в своей семье люди сами между собой разберутся, кому в ней править, считать и делить доходы. Возникающий в подобных случаях бытовой конфликт между снохами можно было бы обозначить как «внутристатусный конфликт неразделенной крестьянской семьи».

Трёхпоколенная семья в Водлозерах. 30-е годы XX века
Статусное положение молодежи в патриархальной семье, как следует из ранее сказанного, в силу близости по степени кровного родства к главе семьи почти всегда было выше, чем у молодой снохи и даже молодого зятя-примака. Юноши в традиционной крестьянской семье уже исполняли работу взрослых мужчин, девушки были способны работать не хуже, чем снохи. Общественный же их статус был ниже, чем у примаков и снох, поскольку в браке они еще не состояли. При этом юноши чувствовали себя более свободными от родительской опеки, поскольку за девушками в патриархальных семьях надзор был не в пример строже (Там же, с. 94–95, 97; Русские, 1997, с. 459–461). Общественный статус молодежи в деревне во многом был связан с индивидуальной репутацией (Громыко, 1986, с. 109), зарабатываемой личным отношением к труду и примерным поведением в личной, общесемейной и общественной жизни.
Статусное положение детей, рожденных в законном браке, в патриархальной семье признавалось равным, всегда более низким, чем у взрослых и молодежи. Однако постоянно нянчиться с младшими братьями и сестрами, чтобы освободить родительницу для более ответственной и тяжелой работы, полагалось только старшей из дочерей, пока та не входила в пору девичества. Это обстоятельство отнимало у нее немалую часть тех радостей детства, которыми могли пользоваться прочие дети в семье. Внутри семьи отношение к братьям и сестрам, детям, внукам обычно было по-родственному нежным. Самым распространенным было обращение друг к другу по уменьшительным именам, вроде Клашенька, Симочка и т. д. Прохладнее относились к падчерицам и пасынкам, но обращение к ним по обидным уличным кличкам и именам – Клашка или Симка – со стороны собственных детей решительно пресекалось как в доме, так и на улице (НАКНЦ, ф. 1, оп. 1, колл. 133/220). Очень низким был статус детей, рожденных вне брака. Появление на свет незаконнорожденного в глазах семьи и крестьянского общества было позором не только для девушки, но и для всей семьи. В Водлозерье XIX в. внебрачные дети появлялись на свет с частотою чуть более двух раз в год (НАКНЦ, ф. 1, оп. 6, д. 730, л. 45). Силою общественного убеждения деревенское сообщество склоняло парня вступать в брак с матерью его ребенка. Если парню удавалось уклониться от женитьбы (жениться он не был обязан – Логинов, 1988, с. 65), родители девушки и сама она подвергались насмешкам соседей, а это приводило к напряженным отношениям внутри семьи. Ещё худшими последствиями это обстоятельство оборачивалось для незаконнорожденного ребенка. Когда он подрастал, обидными кличками и насмешками его осыпали не только в своей же семье, но и на деревенской улице. Такому ребенку приходилось терпеть брань, угрозы и даже физическое воздействие. Соседские дети могли закидать его уличной грязью. Данная ситуация в Водлозерье сохранялась как минимум до начала 1950-х гг. Так, одна из наших информанток, родившаяся в 1937 г., часто с горечью вспоминала, что появилась на свет в результате брака матери с приезжим военнослужащим. Брак был зарегистрирован в сельсовете, но не сопровождался сельской свадьбой (НАКНЦ, ф. 1, оп. 6, д. 628, л. 117). Без свадьбы же, даже при наличии регистрации в сельсовете, брак в первые послевоенные годы в Водлозерье считался недействительным. Родители нашей информантки расстались уже после Великой Отечественной войны потому, что тесть и тёща не дозволяли им спать вдвоем, опасаясь появления новых детей. Мужчина не выдержал и уехал в Ленинград. Мать после этого повторно вступила в брак с вдовцом в своей же деревне. Девочке во вновь образованной семье вплоть до собственного замужества приходилось выносить насмешки младших сестер и братьев, а также отчима, дразнивших ее «яркой» (как бы «рожденной от барана», незаконнорожденной). Брак матери с вдовцом водлозером не регистрировался в сельсовете, но был обставлен тихой свадебкой, а следовательно, признавался легальным и законным в крестьянском обществе.
В традиционной семье незаконнорожденному ребенку, появившемуся на свет от незамужней девушки, частые и незаслуженные укоры без всякого повода приходилось выслушивать даже от родной матери. К ребенку, рожденному вдовою (тоже явно вне брака), крестьянское общество относилось снисходительно, не выделяло его среди прочих, в том числе и рожденных в браке детей женщины (Логинов, 1988, с. 65). Как видим, о статусном равенстве самых младших членов семьи в водлозерской деревне говорить порою тоже не приходилось. Хотя информанты наши не раз отмечали, что приемных детей в крестьянских семьях ничем не выделяли, верится в это с трудом, поскольку за этим следовало утверждение, что родные отец и мать лично их любили больше, чем приемных.
Высокий статус в семье и общине стариков, хранителей деревенской традиции – это аксиома русской этнографии (Русские, 1989, с. 57; Громыко, 1986, с. 11). Но одно дело старик или старуха в уме и ясной памяти, другое дело – древние и немощные. Даже в этом возрасте и состоянии они все равно сохраняли статус более высокий, чем самые младшие члены патриархальной семьи. Дети в присутствии взрослых должны были прислушиваться к мнению стариков. Иное поведение привело бы к неизбежным нареканиям со стороны взрослых, являвшихся в традиционном обществе одной из действенных форм подавления конфликтного поведения детей. И все же в отсутствие взрослых членов семьи или общины подшучивать над дряхлыми стариками, игнорировать их призывы к порядку дети иногда себе позволяли. Дети Водлозерья в этом отношении не представляли собой исключения.
Практически нулевым можно считать семейный статус нечленов семьи, принятых в дом из христианского сострадания. Однако индивидуальный общественный статус таких лиц порою бывал необычайно высоким, как, например, у одного из сильнейших ведунов Водлозерья первой трети XX в. И. Е. Суханова, проживавшего в старости в деревне Охтомостров (Логинов, 2006в, с. 102). Не был нулевым общественный статус и «мирских нянь» (Громыко, 1986, с. 111), старушек, которые переходили жить из одного дома в другой, чтобы заниматься уходом и воспитанием деревенских детей.
Статусное неравенство членов патриархальной семьи было очень удобным инструментом в урегулировании внутрисемейных конфликтов. Слово большака было главным, почти всегда окончательным. Это позволяло другим членам семьи апеллировать к нему по многим вопросам в случае конфликтных ситуаций. Волюнтаристский подход главы семьи к разрешению внутрисемейных конфликтов обычно приводил к недопущению открытой фазы отстаивания интересов противоборствующих сторон, ибо с главой семьи принято было соглашаться. Согласием сторон с его волей обычно исчерпывался и сам конфликт. Если конфликт полностью не преодолевался, ситуация переводилась в состояние скрытной фазы. Это создавало психологическое напряжение внутри семьи. Однако даже такой исход дела расценивался в деревне в старину как имеющий положительное значение. Открытого неповиновения он не содержал, а значит, и не противоречил стержневым принципам, на котором основывалось внутреннее единство традиционной семьи. Среди женщин конфликтные ситуации разрешались с благоволения жены большака. Младшие возрастные группы апеллировали к старшим по возрасту, решение старших принималось к исполнению. На этой основе зиждилась иерархия соподчинения внутри крестьянской семьи, в целом одобряемая и поддерживаемая общественным мнением крестьянского сообщества. И происходило это именно потому, что в решении многих проблем крестьянской семьи и общины главным фактором «являлся обычай» (Русские, 1989, с. 8). Контроль исполнения обычая осуществлялся людьми пожилого и среднего возраста, причем преимущественно женщинами, которые «больше времени проводят по месту жительства в сфере общения вне семейно-родственного круга, ориентированы на соседскую среду. Именно здесь проявляются элементы традиционного механизма социального контроля, ведущие свое начало от общинных порядков» (Русские, 1989, с. 57). Значение общественного мнения четко осознавалось крестьянами. Любое сколько-нибудь широкое сборище в деревне (от крестин до поминок и от хоровода до помочей) могло послужить ареной для апелляции к общественному мнению (Громыко, 1986, с. 107.).
Конфликтные настроения, направленные на оспаривание потестарных полномочий большака, открыто не проявлялись, пока тот был в силе и добром здравии. Когда большак дряхлел, вопрос о смене власти в семье поднимался на семейном совете. Если братья и сыновья стареющего большака хозяйственной сметкой и властными амбициями были обделены, в соперничество вступали зятья-примаки. Не секрет, что иногда к тому, чтобы занять место большака в большой семье, мужей подталкивали жены. Такого рода конфликты можно обозначить как «потестарные конфликты» внутри неразделенной крестьянской семьи. Инициаторами (обычно тайными) раздела большой семьи на малые нередко становились именно невестки. В малых семьях женщинам-крестьянкам жить было комфортнее: жена хоть и находилась в зависимости от мужа, но не испытывала давления со стороны его родственников (Русские, 1989, с. 98). Тяга молодого поколения к образованию собственных семей явно обнаружилась в предреволюционное время даже у старообрядцев Урала и Сибири. В Водлозерье эта тенденция проявилась еще раньше. Если до раздела на малые семьи дело не доходило, новым главой патриархальной семьи становился, как правило, старший сын прежнего большака, очень редко – его дееспособный брат (АНПВ, № 2/73, л. 14). Наверное, последнее воспринималось в Водлозерье как временное состояние семьи, предваряющее распад такой семьи на несколько малых. Сделать это сразу зачастую не позволяли некоторые объективные (отсутствие необходимых всем для обустройства жилых построек) и субъективные обстоятельства (нежелание огорчать бывшего большака).
Неразделенные семьи в старину экономически всегда были более крепкими, зажиточными. Однако жить в такой семье счастливо было не просто. Взрослым членам семьи постоянно приходилось мириться со своеволием большака и большухи в принятии экономических решений. Если сыновья большака с детства были приучены подчиняться воле отца, то снох такое положение устраивало гораздо меньше. Они сами хотели распоряжаться заработанными с мужем деньгами, сами желали стоять у чугунка при подаче пищи на стол, а не довольствоваться тем, что им положит в миску большуха. И это было важной субъективной причиной распада патриархальных семей на малые. Неудовольствие снохи высказывали своим мужьям, настраивали их против дальнейшего проживания в неразделенной семье. Когда недовольных мужчин в семье набиралось достаточное количество, они ставили вопрос о сборе семейного совета, который и принимал большинством голосов решение о разделе земли и имущества. Распад неразделенных семей на малые завершился с образованием колхозов.
Однако и в малой семье властью над своей женой, пусть и ограниченной нормами обычного права, в старину обладал ее муж. По обычаям водлозеров, муж имел право принародно поколотить, проклясть жену, выгнать ее на время из дома (ФА ИЯЛИ, № 3299/22). Жена проклинать мужа не имела права ни при каких обстоятельствах. Но и возвратиться в дом своих родителей жена не могла (Русские, 1989, с. 96). Согласно обычному праву водлозеров, ей позволялось лишь временно жить то у одних, то у других своих родственников. Ситуация разрешалась обычно тем, что жена возвращалась к мужу и униженно, при всем народе, просила принять ее обратно в дом. Так что иерархия малой семьи в традиционном крестьянском обществе пусть грубо, но однозначно способствовала урегулированию семейных конфликтов. В наше время ситуация, когда хмельной муж выгоняет из дома жену и детей среди ночи, остается еще достаточно типичной для Водлозерья. Потом мужья каются и просят прощения, но немногие удерживаются от повторения случившегося. Жены терпят такое обращение до последней возможности. Подавать в суд на развод, если муж «бывает золотой, когда трезвый», у водлозеров почти не принято (АНПВ, № 2/73, 14).
3. Возрастные периоды и социально-возрастные категории полного жизненного цикла
Человек, проживший долгую жизнь, проходит последовательно через возрастные периоды младенчества, детства, юности, зрелого возраста и старости. Казалось бы, с этим все предельно ясно. Однако петербургская исследовательница, Т. А. Бернштам установила, что в народной традиции русских выделялось от двух (дети и взрослые) до девяти – на Русском Севере[5] – возрастных категорий (Бернштам, 1988, с. 24–25). Невольно возникают вопросы о точных границах переходов от одной социальной категории к другой. Например, когда именно новорожденный перестает быть младенцем или же подросток входит в пору юности, и т. д. На общерусском материале эти вопросы, включая терминологию многих локальных традиций, были рассмотрены Т. А. Бернштам на монографическом уровне (Там же, с. 21–123).
Локальная традиция Водлозерья описывается автором в соответствии с представлениями о социально-возрастных группах и возрастных периодах жизни человека, основанных на изучении местной традиции. Традиция эта содержит достаточно четкие представления о том, каким образом фиксировался переход человека из одной социально-возрастной категории в другую, от одного периода жизни к следующему.
В момент рождения человек получал статус «новорожденного». Тут нет иных мнений. Одновременно новорожденный числился в возрастном периоде «младенчества». Но как долго длился этот период в северно-русской традиции? В монографии «Семейные обряды и верования русских Заонежья» автор уже писал: «младенцем» у русских ребенка следует считать от момента рождения до нормативно-обязательного прекращения вскармливания молоком матери (Логинов, 1993б, с. 66). Очень важно, что нормативно-обязательное отлучение ребенка от материнской груди у русских (и других народов, исповедующих ортодоксальное русское православие) не было связано с прекращением физической способности матери к лактации, с реальной продолжительностью биологического кормления материнским молоком. Молоко по разным причинам могло пропадать в груди матери очень рано, его могло и не быть вовсе. В случаях, когда ребенка не получалось отучить от материнской груди в «нормативно» положенный срок, он физически продолжал питаться молоком матери еще долгое время. Однако устав Русской православной церкви жестко предписывал прекращать каждодневное вскармливание ребенка молоком (материнским или коровьим, не имело значения) по истечении первых шести длительных постов, а это выпадало при любых обстоятельствах на полуторагодовалый возраст. Прекращение вскармливания грудным молоком (если молоко у матери еще сохранялось) сопровождалось исполнением сакраментального действа – обряда отлучения от груди. После этого (или по истечении первых шести длительных постов в жизни ребенка) дитя переходило в иную возрастную категорию. У других народов (например, евреев или татар), у которых вскармливание материнским молоком продолжалось не в пример дольше, чем у русских, длительность пребывания ребенка в состоянии младенчества, а также сакраментальная «грань», означающая переход младенца в следующую возрастную категорию, определялись по другим сакраментальным событиям его жизни.
В статье «Этнография детства на Водлозере» (Логинов, 2007б) автор с помощью фактов из жизни водлозеров доказывал, что от рождения до момента наречения именем при крещении в церкви новорожденного относили к социально-возрастной категории «младеней», т. е. младенцев без имени. При этом не имело значения, делалось ли наречение именем повитухой (из опасений, что ребенок умрет при родах некрещеным) или нет. После очистительных обрядов, а главное – крещения, которое можно расценивать в качестве обряда приобщения неофита к церкви и общине (Логинов, 1993, с. 218–219), бывший «младень» входил в социально-возрастную категорию «младенца» (с именем). После крещения, как считалось, ребенок утрачивал сакраментальную нечистоту, присущую ему с рождения. Пока продолжалось кормление грудью, ребенок имел статус «младенца невинного», в отношении которого были недопустимы не только физические наказания, но и грозный окрик. Считалось, что испуг младенца может привести к смертельной для него болезни – родимцу.
В категории «детей» ребенок пребывал с полутора до 12 лет. Собирательным названием для ребятни любого возраста, кроме младенческого, на Водлозере было слово вепсского происхождения – «пайгажи» (ср. вепсское paigačed – «дети»). При этом детей до семи лет на Водлозере называли уменьшительно-ласкательным словом «пайгажата», или «пайгажатки». Среди «пайгажат» водлозеры выделяли две возрастных подгруппы, называя «дитем невинным» ребенка в возрасте с полутора до пяти лет, а «дитем неразумным» ребенка с пяти до семи лет. Между статусом «дитяти невинного» и «дитяти неразумного» имелась довольно существенная разница. Невинное дитя вообще никак не наказывали, предостерегали от действий, опасных для него и для окружающих, укорами или окриками, в экстренных случаях – оттаскивали за шиворот. С пяти лет угроза наказания, например отстегать по ногам крапивой, вполне могла быть приведена в исполнение, но больше в устрашение, чем собственно в наказание. В возрасте семи лет, по водлозерским представлениям, происходило «развязывание» детского ума. Период жизни ребенка до семи лет соответствует младшему детскому возрасту. На Водлозере он маркировался постоянным ношением на шее ладанки для защиты от нечистых духов. С семи лет ребенок переходил в категорию старшего детского возраста, с которого начиналось систематическое приобщение к труду. Ребенок уже считался вполне разумным, чтобы отвечать за свои поступки, в том числе получать наказание в виде физического воздействия. В старшем детском возрасте ребенок пребывал до 12 лет.



