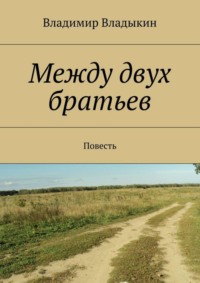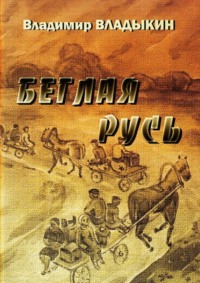Полная версия
В каждом доме война. Роман в двух книгах. Хроника народной жизни (1941—1947)
Зина любила заходить в промтоварные магазины и всякий раз она выходила из них до такой степени расстроенная, что испытывала физическую слабость оттого, что многие красивые платяные ткани для неё были просто не по карману. И вот однажды с Давыдом, продав на базаре сало, она купила на платье дорогого крепдешина и шёлка. Муж недовольно ворчал, считая, что для села это непозволительная роскошь. Надо одеваться просто и практично.
В тот раз из-за такого пустяка они поссорились. Хотя для неё это был вовсе не пустяк, а желание одеваться исключительно по-городскому. И наперекор мужу она всё равно сшила эти платья. И Давыд, застав жену за примеркой обновок, нарочно сказал, что они не идут ей.
– Тебе нравится ходить в хлопчатобумажном костюме? Вот и ходи, а чего тогда в город надеваешь суконный костюм? – проговаривала она с обидой оттого, что муж не одобряет её нарядов.
– Да это же в город, а не в клуб. И на праздник ещё можно. А тебе нравится, чтобы все наши бабы перед тобой от зависти лопались? – отвечал муж, полный ехидства. – И твоя мать такая же воображала. И сестра тоже была ещё та штучка! Одна Майка скромница, вот с кого бери пример!
– Это не твоё дело! Что ты в женские дела вмешиваешься, и как ты смеешь Капу, покойницу, хулить? Я, между прочим, может, для тебя наряжаюсь, – усмехнулась озорно Зина, поведя кокетливо плечами. Хотя знала, что это далеко не так.
– Если бы ради меня, ты бы так не выпендривалась, – испуганно сказал он, взирая на её выкомаривание изумлённо, поскольку в эту минуту Зина была не похожа на себя прежнюю. – Что ты дёргаешь плечами, как курица крыльями перед петухом? – и усмехнулся ехидно, скрывая ревность.
– Я тебе не курица, это ты петух, прыгаешь на жену без её согласия. Ничего не понимаешь в красоте женщины, тебе нужна деревенская клуня, зачуханная. А я уже не хочу быть такой, и никогда ею не была, понял!..
– Я же и говорю – воображала большая. Ты не в городе живёшь, а городской себя представляешь, наверно, спишь и видишь, что ты в городе живёшь, ха-ха! А задница деревенская…
– Ну и свинья же ты, Давыд! Если надо – уеду в город и у тебя не спрошусь! Я больше тебе и слова про это не скажу.
Из другой горницы послышался плач ребёнка, который там спал и Зина пошла к нему, чтобы переодеть его. Одно время из-за сына она не ладила с матерью, так как просила её сидеть с ним, а сама хотела выйти на работу. Ульяна Степановна тогда ей ответила, мол, у Давыда есть тоже мать, вот и пусть Серафима берёт на себя внука. Зина обиделась, пошла тогда к председателю Костылёву, чтобы отдать в ясли шестимесячного ребёнка. Когда Ульяна Степановна об этом узнала, она не на шутку испугалась, что дочь собирается загубить ребёнка, так как в яслях была нянькой бездетная, безмужняя сестра Афанасия Мощева Ангелина, прослывшая в посёлке, как и её братец, напористой, громозвучной бабой, хотя ей ещё не было и двадцати пяти лет. Но на вид она казалась старше своего возраста. С ней работала и поваром, и воспитателем Василиса Тучина, жившая со свекровью. У Василисы была младшая годовалая дочь. В своё время Макар предложил Василисе работу в яслях, в которые уже водили мамаши с десяток детей ясельно-детсадовского возраста.
И вот Ульяна примчалась к дочери и стала её распекать:
– Ты в своём уме, Зинка, ребёнок для ясель ещё маленький и кому отдашь – Гелине, которая не знает, как обращаться с детками? Сиди сама дома!
– Василиса там есть, она хорошая женщина, – ответила дочь. – Я работать буду… всё равно, маманя, если тебе трудно выручить меня…
– Василиса со своим бы управилась дитём, а твой ещё не ходит, а с ним надо нянчиться немало. Не чаешь влезть в хомут доярки или молока тебе мало? Так я дам тебе, а нечего мальца чужой тётке всучивать. Мне тоже работать надо – трудодни выхаживать, кто за меня будет? А Майка пущай учится и семилетку оканчивает. На выходной можешь принести – посижу. А ты снесёшь на базар мою сметанку продать…
– Ой, ну что за человек ты, маманя! Нужен мне этот хомут. Я хочу давно в город уйти, а ты меня замуж отдала за этого борова, да он же любить, как следует, не может, – жаловалась Зина, чего никогда не делала перед матерью. – А молока мне твоего не надо и даром, спасибочки, за твою помощь…
– Как ты так можешь хулить Давыда, боже, совсем без стыда! Да таких хозяев у нас ещё поискать! И о какой ты только любви мечтаешь? Капа, бедная, всё в город рвалась, а я не пускала, – в оторопи говорила Ульяна.
– Я тебе тоже самое говорила, а ты меня в замужество пихала: иди, прохлопаешь ненаглядного, может, он для тебя и хорош, но мне не подходит! Если бы я это тогда понимала… – отчаянно покачала она головой. – И теперь должна его терпеть. – Зина вдруг заплакала, замотала головой, а потом быстро отвернулась от матери.
– Молчи, молчи, непутёвая, а то, как он услышит! Я шла и боялась твоих слёз, чуяло моё сердце, что неладно вы живёте…
– Давыда нет, к отцу ушёл…
– И какого тебе лешего ещё надо? Другая бы Бога за него молила, а ты никак не ценишь и не понимаешь своего счастье, Зина, – Ульяна задумалась и потом ушла домой в самых тревожных предчувствиях…
И грянула война, ушли на фронт мужики, а Зине, будто того было и надо. Когда прощалась с мужем, её прошибли слёзы не оттого, что Давыд уходил на войну и мог там погибнуть, а потому, что решила тут же уйти в город, о чём не могла сказать мужу, чтобы не расстраивать его в такую тяжёлую для прощания минуту. И собиралась сообщить после, но как это сделает, совершенно не имела понятия. Из-за этого её порой мучили слёзы, да и Давыда по-человечески ей было жалко, так как перед ним чувствовала свою неизбывную вину. Ведь в такое страшное время решила круто изменить свою жизнь, отказавшись от долга жены, матери, загрезив городом, куда её толкала словно неведомая сила.
Конечно, в город она подалась не сразу: от того дня, как проводила на войну мужа, прошло ещё какое-то время. Однажды с оказией побывала в сельсовете, где председателю Рубашкину выказала своё заветное желание выйти из колхоза, что хочет по комсомольской путёвке работать на стройке.
– А воевать не хочешь? – вдруг спросил Андрон Борисович, прищуривая хитро глаза. – В медсётры иди, набор на курсы объявлен. Ты, если не сдаёт мне память, замужем за Полосухиным? Вот и ребёнок есть, а куда-то рвёшься: странно. Война, а тебе какую-то стройку подавай?
– Ну и что, если медсестрой в госпитале, я могу, – робко ответила Зина, не вынося сверлящего взора Рубашкина, к тому же её поразило, что председатель знает, чья она невестка. Хотя была наслышана о нём, как о всезнающем про всех и вся. – Я везде могу. Только дайте разрешение выйти из колхоза.
– Зачем тебе выходить? Нет, так не годится, люди в колхозе нужней. Но в виде исключения – медсестрой – пожалуйста. Ступай в райком комсомола. А я справку дам, что можно… Да, а на кого ребёнка оставишь? На мать? Так и знал…
И Зина добилась направления на медицинские курсы. Хотя она очень боялась, что её могут отправить на фронт. Она втайне думала о разводе с мужем, к чему не знала как подступиться, ведь чего доброго её упрекнут: муж воюет, а она разводится. Сына Колюшу, который уже бегал, взяла мать, Ульяна Степановна, она с горечью в душе отпустила старшую дочь, что поделаешь, раз заблажила городской жизнью. Своим бабам Ульяна объяснила поступок дочери просто: дескать, после обучения на курсах Зина станет работать в госпитале медсестрой, что вполне приравнивалось к фронту. На её полноватом лице светилась гордость, дескать, Зина поступила умно, чтобы быть там, где сейчас нужней всего…
Курсы медсестёр проходили в старом здании медицинского училища, которое стояло за соборной площадью по Крещенскому спуску, ведшему к железнодорожному вокзалу. В высокое полуовальное окно хорошо был виден громадный Вознесенский собор, который просматривался самым большим центральным куполом, как помнила Зина, с их колхозного тока. Он впечатлял и на большом расстоянии сверкавшим в ясный солнечный день своим позолоченным крестом. Вблизи же впечатление от собора было непередаваемое, словно высечен из гигантской скалы шедевр архитектуры. Он работал и в будни, и по воскресеньям, когда наплыв прихожан был больше всего. Зина, как комсомолка, боялась входить в собор, чтобы не навлечь на себя гнев начальства. В городе она жила в общежитии. В группе курсисток в основном были только городские девушки. И лишь несколько – из пригородов и соседних хуторов и станиц. По улицам, где дороги были вымощены булыжником, ездили автобусы, легковые автомобили и грузовики. Как никогда по улицам ходило много военных. На ипподроме иногда проводили тренировочные занятия будущих медсестёр. Здесь же обучали молодых солдат, которые заводили с девушками знакомства и назначали им свидания. Но Зина не особенно жаловала своим расположением и парней, и молодых мужчин. Хотя некоторые ей очень нравились, но она была замужем, чем, собственно, иногда тяготилась. К тому же её не устраивала, с кем бы то ни было, временнная связь, так как всем им скоро предстояло отправляться на фронт. В группе замужних не было и поэтому Зина считала себя самой опытной в женских делах, чем, однако, ни перед кем не кичилась.
Несколько раз с девушками она ходила в кино, которое видела в своей жизни немного, к ним в посёлок кино привозили из города нечасто – в месяц раз или два, а то и ни разу. Но самым волнующим моментом было посещение танцев в парке, который в старое время, говорили, назывался Александровским садом, где танцевала со своей девушкой по комнате, приехавшей на курсы из хутора Большой Мишкин. Ада была девушка весьма рослая, стройная и степенная в движениях, с уверенным взглядом. Одевалась по-городскому, читала книги, беря их в библиотеке. Зина же, к своему стыду, читала очень давно, даже не держала в руках газет. Больше всего её привлекали магазины и кино. Жизнь в городе, несмотря на войну, шла в своём привычном заданном ритме. Познакомившись непосредственно с её укладом, Зина стала понимать, что жить в городе непросто, каждый день приходилось питаться в столовой, на что нужны немалые деньги. Из дому продуктов не навозишься, да и хранить в общежитии их негде. А когда Зина узнала, какие на продукты кусачие цены на рынке, где картошка стоила очень дорого, а чтобы купить килограмм сливочного масла нужно уплатить трёхмесячную зарплату рабочего, то есть до 800 рублей. Хлеб выдавали по карточкам по 600 грамм на день.
Так что картошку, другие овощи ей привозила мать, ведра хватало на неделю. Ада тоже имела свои продукты, и они готовили еду совместно. Радио почти каждый день сообщало о положении на фронтах, которое волновало без исключения всех, внушая тревогу. Когда осенью пали Киев, Днепропетровск, Харьков, когда немцы стремительно продвигались в глубь страны, было уже ясно, что не сегодня-завтра враг ворвётся в город, где в спешном порядке с заводов вывозилось на станцию оборудование: мимо училища каждый день проезжали крытые брезентом грузовики. Горожане из привилегированного числа тоже готовились к эвакуации, но простой люд никуда не собирался, заготавливавший, однако, впрок провиант. Хотя осенью в школах, техникумах, институтах, ремесленных училищах занятия начались как обычно. Молодёжь отнюдь не унывала; продолжали работать магазины, рестораны, кафе, столовые, кинотеатры, театр драмы. Казалось, в городе шли две параллельные жизни двух слоёв общества. И лучше чувствовали себя те люди, которым было суждено пережить оккупацию, хотя исключительно об этом никто не вёл досужих разговоров. Но всё равно рождались какие-то нелепые слухи, что скоро власть переменится, что будет восстановлен самодержавно-демократический строй…
Однако с наступлением темноты по городскому радио предупреждали о соблюдении светомаскировки, а кто не будет её соблюдать, тем грозит суровое наказание в условиях военного времени. Даже если кто зажжёт на улице спичку, не уйдёт от ответственности, это расценивалось как подача сигнала врагу. И Зина с Адой вечером уже боялись показываться на улице, где несли дежурства военные и гражданские патрули…
Словом, ночью город погружался в непроглядную темноту, и в ясную погоду в небе сияли яркие звёзды или светила большая луна, в свете которой можно было видеть прохожих и гуляющие парочки. Между прочим, участились разбои, грабежи, что тоже нагнетало обстановку. Зина думала, что в посёлке Новый намного безопасней, чем в городе, хотя бывало, что и в колхозе появлялись воры. Долго люди обсуждали случай, произошедший весной, когда Роман Климов, дежуривший на свинарнике, управился один с двумя матёрыми ворами, пришедшими из города…
А потом всем курсисткам в свободное от учёбы время вменялось участвовать в подготовке эвакогоспитателей, девушкам приходилось таскать медоборудование. Но в этой работе участвовали не только они, но и курсанты лётного и суворовского училищ, старшеклассники школ, учащиеся фабрично-заводских училищ…
Домой проведать сына, по которому Зина скучала особенно первое время (а потом к разлуке привыкла), она ездила ближе к вечеру в субботу, а в воскресенье возвращалась в город. Ульяна Степановна провожала дочь, видя, что Зина по-прежнему рвётся из дому, а ведь сама уже с лица сошла, платья обвисают, как на вешалке.
– И чем тебе дался этот город – не знаю! – в досаде говорила мать. – Давыду-то хотя бы письмо написала. Я адрес у твоей свекрови взяла. Серафима дуется на тебя, и чего ты не сходишь к ней, не объяснишь, что ты тоже на службе?..
– Напишу… просто мне сейчас очень некогда, – нехотя отвечала Зина. – А к свекрухе не пойду, она меня всегда ненавидела, да и кого она у нас уважает, вечно чем-то недовольна. И такая же её Стешка. Ты скажи им, что я, может быть, скоро на фронт уеду, нечего ей дуться в такое страшное время.
– Я говорила, что тебя учат на медсестру, но про фронт это правда, доченька? Да что я буду делать тогда? – закачала она сокрушенно головой.
– Да, правда! Я же сама согласилась, и в тыл не буду проситься, наверно. Через два месяца нас с Адой выпустят. Нам говорили, что скоро будем дежурить ночью на крышах жилых домов, когда вдруг начнётся бомбежка, но этого я не должна даже тебе говорить. А ты молчи, маманя, – сурово предупредила она.
– Боже упаси, чтобы я кому-то сказала! И чего наши немца не остановят, да зачем он нам нужен, я уже сама ночами не сплю, боюсь самолётного рёва. Как услышу звук, так вся трясусь и крещусь, – признавалась Ульяна Степановна. – А ты береги себя… смотри, меня не опозорь с чужими мужчинами. Помни, что замужем – не искушайся, смотри Зинка.
– Это я без напоминаний знаю, маманя. А ежели влюблюсь невзначай? – тут же спросила она, смеясь и ответила, как давно решённое. – Тогда я своего шанса не упущу. В колхоз я всё равно уже не вернусь…
– Ой, Зинка, не балуй, сраму будет мне, а Давыд как – пожалей сыночка. Кому ты нужна с ребёнком там, да ещё война, ой, смотри, не балуй. Как отцу буду в глаза смотреть после, смотри, Зинка, ты влюбишься, а он только побалуется тобой и с животом оставит. Вот срам нам будет! – в оторопи рассуждала Ульяна Степановна.
– Не унывай, маманя, я ещё ни в кого не влюбилась, это я пошутила, – весело проговорила Зина, хотя сама мечтала о любви, несмотря даже на войну.
– И не дай Бог! А мне твои шутки не нужны. У нас вон что говорят про Анфиску Путилину, будто Гришка Пирогов её обрюхатил, так она избавилась от живота. Говорят, ночью ходила к Чередничихе старой. Она умелица плод вытравлять. Хорошая девка, но вот ославилась на весь посёлок: мать опозорила, и сама в грязь блуда упала.
– Ну, так это же Анфиска, а не я. Может, это всего лишь злая бабская сплетня? Ведь она такая гордая, умная и с каким-то Гришкой? – усмехнулась Зина.
– А зря говорить не станут. Гришка видный парень, но гуляка, как и его отец, путался то с Тамарой Корсаковой, то с Авдотьей Треуховой, то с Домной Ермилиной. Да-да, доченька, такие уважаемые бабы и туда же. Павла знала – ругалась на наряде с бабами. А они только на смех ее подняли. Даже слух прошёл, будто Захар обнимал Вальку Чесанову. А твой деверь Панкраша из-за этого жениться на ней передумал…
– Врут твои бабы много! – воскликнула Зина. – Что она сама к старому мужику на шею вешалась? От него и мне перепадали пошлости. Но я молчала на его дурацкие штучки. И я не слышала, чтобы Панкрат собирался на ней жениться. Это бабы выдумали…
– И что ты за человек, Зинка: на Давыда рукой махнула, чует моё сердце, не напишешь ты ему. Нет, не напишешь. Как мне стыдно перед Серафимой. Если бы ты знала! Чую я – это навсегда, а сын как будет… без матери?..
– Нечего заранее гадать, мамаша, иди домой, а я сама доберусь, – оборвала почти грубо Зина.
– Смотри, будь осторожней, пешком сама больше не ходи, с оказией приезжай, а где её, эту оказию, найдёшь? – сокрушалась Ульяна Степановна, остановившись, трёхкратно перекрестив дочь. И потом ещё смотрела ей вслед, держалась рукой за подбородок, ощущая как текли по щекам слёзы…
Глава 4
…Когда Гриша Пирогов уходил на фронт, Анфиса Путилина помахала парню рукой. Накануне она велела ему близко не подходить к ней, полагая, что бабы ничего не знают о её связи с ним. Но относительно честности Гриши она ошибалась. Девушка считала, что он обязательно сдержит данное ей слово, чего, однако, не случилось, так как от переполнявшего чувства гордости за себя, парень проговорился сестре Глаше исключительно из бахвальства, что почти всю ночь гулял с Анфисой, самой чудесной девушкой в посёлке.
– Да что ты врёшь, Гриня! – сказала недоверчиво Глаша. – Анфиса с тобой гуляла, хи-хи, намедни от неё я слыхала, что в посёлке для неё нет ни одного достойного парня. Чуешь ли, что она балакала? – лукаво подначивала она.
– Ха-ха-ха! – засмеялся брат. – Она так правда тебе говорила, в это даже трудно поверить! Я запросто целовался с ней и даже больше…
– Хвастунишка, Гришка, что же могло быть больше поцелуя? – деланно протянула сестра, лукаво глядя на брата. – Ты ври да меру знай! – протянула она нарочно, чтобы вытянуть из него признание.
– Как хочешь, так и думай, теперь она моя… это я точно знаю! – гордо воскликнул Гриша.
– А Валька Чесанова свободна, как же она, тебе уже не интересна? – спросила Глаша, веснушчатая, светло-русая девушка, встречавшаяся одно время с Ильёй Климовым, а в последнее время с Мишей Старкиным, а Илья вдруг переметнулся к Доре Ермолаевой.
– Да, уже душа к ней не лежит. Анфиса намного лучше, но ты смотри только никому ни слова, – строго предупредил Гриша…
– Ой, из чего ты секрет делаешь? – махнула она недоверчиво рукой. – Ладно, никому не выболтаю. Но ведь всё равно и без меня люди узнают, – усмехнулась кокетливо сестра, думая серьёзно, что кроме неё кто-то ещё уже знает о брате.
Отчасти Глаша была права, но, испытывая к Анфисе зависть, как счетоводу на ферме, она при первой возможности разболтала секрет брата Тане Рябининой низенькой, коренастой девушке. Как-то они сидели возле вагончика в ожидании коров с попасу; другие доярки мыли подойники или стояли в отдалении и разговаривали. Анфиса же только что пришла на стойло, поздоровалась со всеми как обычно, но Глаше показалось, что её она не заметила.
– Какая важная птица! – сказала неприязненно девушка. – Строит из себя барыню, а сама гуляет с моим братом.
– Правда? Это она учудила по-соседски! В клуб не ходит или раз по обещанию, – ответила подруга удивлённо. – А я думаю, чего это у неё живот выпирает не в меру, значит, она уже залёточка?
– Гришка, кстати, намекал о близких с ней отношениях, но я
не поверила.
И этого было вполне достаточно, чтобы эта новость растеклась грязным ручейком по всему посёлку. А спустя время та же Танька Рябинина, жившая через два двора от Чередниковых, рассказывала дояркам, что к Чередничихе вечером приходила якобы Анфиса. А чем иногда занималась старая Чередничиха – эта весёлая, взбалмошная певунья и плясунья, в посёлке всем было хорошо известно. Не одна баба побывала у неё, избавлявшей от нежеланного бремени…
Собственно, на самом деле всё было несколько иначе. Анфиса действительно имела слабость отдаваться Грише, действительно она опасалась беременности, ведь критические дни для неё прошли и она с трепетом ждала нового цикла, который, однако, уже запаздывал. Но это она относила на свои переживания, а потом её опасения оказались преждевременными. Анфиса с облегчением удостоверилась, что она вовсе небеременная и с этого времени вновь повеселела, сделавшись непринуждённой в присутствии посторонних. Но с Гришей всё это время старалась не встречаться. Когда он захотел увидеть её, Гриша на полпути домой остановил девушку. И Анфиса, почувствовав к нему неодолимое влечение, согласилась прийти в условленное место. Гриша был счастлив, видя это, она спросила:
– Я надеюсь, что ты не болтун? Сестре ничего не говорил, а то Глаша смотрит на меня так, будто я должна ей что-то.
– Конечно, о тебе сестре я смолчал, как рыба! – поспешно ответил он, пряча, однако, от неё глаза. Анфиса тоже опустила взор, она догадалась, что он врал, но больше ничего ему не сказала.
В следующий раз она всё равно пришла в лесополосу с таким чувством, будто у кого-то отняла парня, и до сих пор не могла понять: почему она так легко уступила ему, словно давно встречалась с ним? С того раза они почти не разговаривали, хотя видела, как он смотрел на неё издали. И это было тем более удивительно, что она никогда бы не вышла за него замуж, так как Гриша не совпадал с её представлением о суженом. Тем не менее вдвойне было странно то, что с недавних пор она испытывала к нему как будто родственные чувства. Разумеется, ближе парня, чем Гриша, у Анфисы пока что не было. И отныне ей казалось, вряд ли когда будет, о чём, правда, она больше не задумывалась, живя исключительно ради сиюминутного удовольствия.
– Ах, Гриша, что я делаю? Гублю себя, – с чувством прошептала Анфиса, прижимаясь к нему всем телом, закрывая от грешного стыда глаза.
– Почему ты так считаешь, дак я ж тебя люблю! – удивлённо воскликнул он.
– Люби, люби, Гриша, больше никого нет, это ты знаешь, и ничего не спрашивай. Мне с тобой очень хорошо, делай своё мужское… Боже, что я говорю: это же чистый срам! Неужели у нас с тобой такая страстная любовь? – горячо шептала она в полусмехе.
На этот раз он не торопился. Ему самому хотелось побыть с ней дольше обычного. Она вселяла ему непоколебимую уверенность.
После того, как парочку стало так неодолимо притягивать друг к другу, и когда это случилось в очередной раз, Анфиса велела тому уходить первым, тогда как она, вместо того чтобы идти домой, вдруг сама не зная зачем пошла на ферму, где дежурили по ночам из-за отсутствия скотников доярки. Она заглянула в окно, увидев в дежурном помещении брата Гордея и Ксению, не стала заходить: обошла вокруг ферму и пошагала домой. В клубе ещё горел свет, откуда доносилась гармошка, на которой (она знала) рьяно играл Дрон Овечкин. Затем по противоположной стороне улицы Анфиса поравнялась с хатой Чередниковых, желая у старухи узнать: правда ли, что задержки месячных бывают единственно в том случае, когда женщина забеременеет? Хотя у неё подобное ещё не случилось, но ей хотелось точно знать, когда это происходит, чтобы потом быть ко всему готовой. В этот момент она увидела вышедшую из двора Зинаиду Рябинкину, и у Анфисы тотчас отпало желание идти к старой ворожее. Она заторопилась уйти с глаз долой тётки Зинаиды, слывшей в посёлке донельзя любопытной, способной вдобавок выдумывать разные небылицы. Наверное, всё-таки та заметила девушку, что вскоре и послужило толчком для сплетен об Анфисе…
А через несколько часов началась война, чего тогда люди ещё не знали. А потом Гриша ушёл на фронт. В ту же ночь Анфиса во сне увидела свою бабку, которая несла на руках новорожденного ребёнка. Анфиса с радостью было хотела взять на руки младенца, но бабка стала крестить его и выгонять её прочь. «Бабушка, зачем ты меня прогоняешь, – с обидой спросила она. – Ведь это же у тебя мой ребёнок?» «Нет, Фиска, твой ребёнок никогда не родится, а этого я отдам Гордею, когда придёт время». И бабка вдруг пропала, Анфиса проснулась в жутком смятении. Свою бабку, материну мать, Анфиса помнила хорошо, когда она умерла от голодного истощения, ей было лет десять или того меньше.
Но прошло время, Анфиса убедилась, что и на этот раз она не забеременела. Конечно, это открытие её несказанно обрадовало, так как избежала людского позора. Однако от оживлённых пересудов о своей тайной связи с Гришей она была вовсе не защищена, чего она больше всего опасалась. Но злая молва никого так не коснулась, как ее саму. Анфиса старалась держаться на людях невозмутимо и вполне уверенно под озабоченными взглядами баб, будто нарочно ощупывавших глазами ее живот; она вовсе не смущалась, словно и впрямь была безгрешная, оставшаяся невинной. Хотя это самообладание ей давалось весьма нелегко…
Чередничиха была престарелая, крепкая, выносливая женщина. Несмотря на свой подвижный, весёлый ум, она умела молчать обо всех тех, кто когда-либо обращался к ней за помощью. Её слава по женским делам распространилась далеко, и к ней приезжали даже из далёких хуторов и станиц. Днём она никого не принимала, в колхоз выходила на наряды в первые годы жизни в посёлке. А потом не стала, занимаясь огородом, хозяйством, помогая воспитывать детей сыну Александру. Старшая, Алёна, уже вовсю невестилась, начав бегать в клуб на танцы. И вот у неё Танька Рябинина спрашивала об Анфисе, была ли она у её бабки, на что Алёна только сдержанно пожимала плечами.