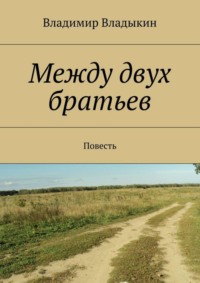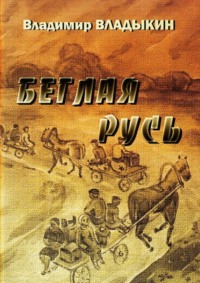Полная версия
В каждом доме война. Роман в двух книгах. Хроника народной жизни (1941—1947)
– А вам жалко дать, если и попросят? Ведь люди-то свои. Не враги. Или фашистов ожидаете?
– Да ну, да ну, избави Господь! Я очень рада вам, проходите, молочка сейчас принесу холодненького из погребца, – льстиво залепетала женщина и живо побежала в курень.
Инструктор осматривал справное, обихоженное большое подворье пожилой казачки. За плетёной изгородью был виден длинный огород, упирающийся в чью-то изгородь. «Эти казаки куркули: палил станицу Будённый, так, видно, мало лиха они нюхали», – подумал военный.
– А вы бы, товарищ инструктор, её арестовали, – как бы посоветовала Маша.
– Ничего, она поняла, девчата. Надо воспитывать рабоче-крестьянскую сознательность, воспитывать и пестовать! – наставительно сказал он. И в это время женщина вынесла ведро с водой и банку молока, подав её военному.
– Пейте, пейте на здоровье, а то в курень проходите, там у меня внуки маленькие, мои-то сыновья воюют. А невестки работают в городе. Я с внуками сижу, а деда моего взяли в трудовой тыл, – пояснила быстро она.
На улицу с луга вошли парни и смотрели на казацкие дворы. Увидев своих, ребята бойко пошагали к ним.
– Что здесь за митинг? – ещё на ходу спросил весело Дрон. Маша быстро подошла к нему. Отвела в сторону, став что-то тихо ему объяснять. И его лицо потемнело, напряглось; он смотрел себе под ноги, затем вскинул на девушку в отчаяннии глаза.
– Все видели, как ты его повела сюда! – резко сказал Дрон. – Маша, ты не обманешь меня, твоему я ничего не скажу. Да он сам видел и на глазах у нас погрустнел, как огурец солёный перед отправкой в рот. Зачем Анфиску водила к городским чувакам? А с военным чего путаешься?
– Бог с тобой, Дрон, я как лучше хотела, какие чуваки, какой военный? Он на Нинку зыряет, положил на неё глаз, а ты, дурачок, не веришь? Ну, как хочешь… – и она, смеясь в кулачок, отошла от Дрона. Её поступок все заметили, а Нина смекнула тотчас, что Маша хочет поссорить с ней Дрона. Но что это ей даст, она не ведала, хотя тут же решила, что так даже будет лучше, и Дрон от неё скорее отстанет.
Девчата, напившись воды, пошли в лагерь. Дрон взял Нину под руку – это увидела Маша и довольная улыбалась тому, что случилось.
– Ты заигрываешь с инструктором? Меня совсем не видишь? – спросил настырно Дрон, скривив брезгливо рот и отставив назад голову.
– Батюшки несусветные, ты слушаешь эту сплетницу? – изумлённо произнесла Нина. – А руку сейчас же выпусти! – и он, как ни странно, отпустил её.
– Да никого я не слушаю, – изломав губу, бросил он.
– Если ты сам так думаешь – пожалуйста – думай сколько влезет! Мне, знаешь, это всё равно, Дрон. Скоро мы уедем рыть окопы, а ты – на фронт. Вот так для нас будет лучше…
– Чему ты так радуешься? Ведь там погибнуть можно в два счёта, – возмущённо сказал он.
– С чего ты взял? Ну да, война не щадит никого, – согласилась девушка. – Пошли, а то перед нашими как-то неудобно… – и Нина, не глядя на него, быстро пошагала.
Дрон, удивляясь своей покорности, послушно вразвалочку поплёлся за ней. Он забыл напиться воды, губы пересохли, а вернуться – поленился, и, шагая, сплёвывал в пыль вязкую белую слюну. Но чувство жажды сейчас начало у него вызывать злобу на упрямую девушку, которая никак не хотела подчиниться ему. Дрону так и манилось нагрубить девушке. Но какая-то неодолимая сила удерживала его от дерзости; перед ней он делался словно безвольным, и она действительно как бы незримо своими неодолимыми чарами будто связывала его по рукам…
А между тем Нину сейчас занимал не Дрон, а инструктор, которым он больно упрекнул её, Нина хорошо понимала, несмотря на свой зрелый возраст, он очень ей нравился. Таких замечательных парней в посёлке просто нет, от него веяло нравственной чистотой и благородством. Дрон тотчас показался мелким, жалким циником…
Глава 2
Когда началась война, Андрон Рубашкин нежданно-негаданно запросился на фронт, поскольку ему изрядно надоела роль сельского «жандарма». Проверки и перепроверки всех приезжающих в посёлок у него вдруг почему-то стали вызывать чувство омерзения, в чём он, правда, не признавался никому, даже своей жене. Однако какое-то время Андрона не отпускали на фронт. И он продолжал тянуть лямку невольника. Потом из райкома поступило распоряжение: отправить председателя Корсакова на войну, а на его место (если нет подходящей кандидатуры), заступить ему, Андрону. Но от этого жребия он с радостью отмахнулся, вспомнив, что Макар Костылёв работал в колхозе конюхом, а на войну его почему-то не отправили. И теперь для него он был спасением…
Гаврилу Корсакова проводили на фронт, устроив в его доме гулянье от правления колхоза, куда входил и Макар. Жена председателя Тамара плакала без притворства, что мужа так неожиданно забирают, будто без него не обойдутся на войне, что его там одного только и не хватало. Играть на гармошке позвали Прона Овечкина, несмотря на то, что Захар Пирогов в посёлке считался лучшим гармонистом. Но это была воля самого председателя, так как Захара, видного мужика, в своём доме он не мог видеть по той единственной причине, что Тамара, где бы то ни было, поглядывала на него почти в открытую. И охотно становилась к нему поближе спеть частушки, когда вместе гуляли после успешного завершения уборочной страды…
И вот даже жена Захара Павла была несказанно рада, что мужа не позвали на проводы председателя; ведь она знала, как Захар иногда даже во сне называл жену председателя по имени…
На следующий день, когда Корсаков отбывал на фронт, Павла нарочно пошла к клубу, где собрались провожающие; она увидела наряженную в дорогое шёлковое платье Тамару Корсакову, которая слегка вытирала мокрые от слёз глаза, а Павле казалось, что жена председателя только притворялась. Ведь все видели, как два месяца назад, перед посадкой призывников на машину, она рыдала, прижимая к груди своего сына. Но разве люди могли знать, что дома Гаврила приказал ей больше так не реветь и на людях держаться достойно.
– И-и, бабы, какая бесстыжая Тамарка! – протяжно говорила Павла. – Мужика на войну провожает, а слезинки ещё ни одной не уронила.
– А чего ей по нему убиваться? – сказала Анна Чесанова. – Скучать она не будет… не в её это характере. Завтра уже будет песни петь на току…
Павла пришла домой. В это время Захар сгребал на огороде сухую траву. Она подошла к нему.
– Картохину ботву не сгребай, – подсказала она. – А то как будем осенью выкапывать, ты же ничего не оставил?
– Не перечь мне, Пашутка. Погорела ботва, а лунки видны: вот и вот, – показал Захар жилистой, натруженной, в мозолях загорелой рукой. Он был сухопар, высок, жилист. – Я сам буду копать, так что не лезь под руку…
– И чего тебя не берут на войну? – вдруг вырвалось у неё с затаённой ревностью и злостью. Захар удивлённо посмотрел на жену.
– А ты, Паша, что без меня будешь делать? – криво усмехнулся Захар. – И чего ты злишься, никак не пойму? Да, проводила Гаврилу, много людей-то было?
– Проводила, жалко человека. Вот опять Макар безголовый в преды вступил. Ох, пьяница проклятый. Я бы его метлой из колхоза – чвих!
– Чего ты всё злишься, тебе какая разница? – возвысил голос муж. – Тебе хочется, чтобы я погиб на войне? Останешься с Глашкой и матерью, вот будет вам хорошо!
– А ты мечтаешь всю войну за мою юбку держаться или по Тамаре всё сохнешь? Вот уже нос стручком фасоли торчит, и сам в жердь превратился. Да, теперь Гаврилы на неё нет – своя волюшка! – продолжала Павла точить мужу нервы.
– Посмотрись в зеркало, как ты вся почернела от злости. И что ты заладила: Тамара, Тамара! Один раз станцевал, спел частушку, словно переспал с ней. У тебя глупей мыслей нету… – Захар вдруг бросил грабли, быстро сел на сухую траву, закурил папиросу, и нагнул голову, уйдя в свои мысли.
Павла была крупной кости, толстая баба, пухлые щёки гладкие, нос еле виден из-за них, а Тамара хотя и полная, но фигура ещё сохранилась, и во всём она была другая: звонкоголосая, бедовая. Лицо выразительное, красивое, что невольно ею залюбуешься, заглядишься…
А через два дня призвали и последних мужиков: Мартына Кораблёва, Прона Овечкина, Ивана Гревцева, Касьяна Глаукина, Василия Треухова, Прохора Половинкина, Елизара Перцева, Потапа Бедкина, Остапа Шкарина и наконец Захара Пирогова.
– Вот, родная, и дождалась! – сказал жене на прощанье Захар.
Павла тупо взирала на мужа, поджав нижнюю губу, изломав светлые брови в мучительном осмыслении случившегося. Впрочем, она силилась понять, могла ли она говорить такое, в чём сейчас уличил её муж? Павла заморгала часто-часто белесыми ресницами и заплакала горько, неутешно, не глядя на Захара, а он приобнял жену и поглаживал по спине. Она, словно опомнившись, прижалась к нему и вздрагивала всем своим тучным телом. Потом вдруг резко оттолкнула мужа от себя и пошла лицом к нему назад, махая рукой. Павла не видела, как прощались бабы со своими мужьями и сыновьями. К ней подошла сбоку дочь Глаша, обняла мать, плача вместе с ней.
– А ты чего же не попрощалась с отцом, не обняла? – спросила у неё. – Ведь не увидим родимого, не увидим! – и девушка, словно очнувшись от спячки, подбежала к нему и обеими руками споро обхватила за шею, поцеловала, и также быстро отпустила его. Захар, как пришибленный, пошагал к машине. И вскоре она запылила в направлении города. Люди стояли и махали руками вслед до последнего, пока они не скрылись из виду. Затем стали постепенно расходиться. Глаша и Павла пошагали от клуба в угрюмом молчании…
Вместе с другими жителями посёлка Екатерина Зябликова с Ниной тоже провожали будущих фронтовиков; сейчас они было направились в свою старую хату, но тут же вспомнили, что теперь в ней жила семья Гурия Треухова. А перед самой войной приехал его родной брат Василий, которого только что забрали на войну. И вот Екатерина вздохнула как-то грустно и с дочерью свернула с грунтовой дороги в сторону поляны, и пошагала на другую сторону улицы, где в самом её краю вот уже больше двух месяцев жили Зябликовы. За это время Екатерина получила от Фёдора только два письма. Из первого она узнала, что сначала они рыли окопы, затем их ночью посадили в эшелон и повезли на восток. Как позже выяснилось, их привезли в Кузбасс, где разместили в деревянных чёрных бараках. И там, в Сибири, тоже стояла жара, а потом немилосердно зачастили дожди. Впервые в жизни Фёдор спустился в угольную шахту на большую глубину, откуда поднимали наверх вагонетки с углём и породой. Каждый день работали больше десяти часов, не зная выходных. Фёдор из своего посёлка там был один, о судьбе Семёна Полосухина и Гурия Треухова он ничего не знал: их пути разошлись под Миллеровом…
Разумеется, Екатерина была довольна, что судьба отвела мужа от передовой, но даже и то, что он попал на шахту, это её совсем не успокаивало; но оставляло надежду, что там ничего плохого с ним не случится. Конечно, она написала мужу о жизни в посёлке, как уходят на войну время от времени мужики и ребята. И вот, наконец, с уходом последних мужчин посёлок как-то совсем обезлюдел и осиротел, отчего на душе совсем стало безрадостно. Молодёжи осталось немного, – одни девушки да подростки. Наверное, осенью или зимой начнут призывать молодых ребят, которые сейчас на полигоне проходили военную подготовку. А девчат уже два раза возили в Кадамовку на копку окопов, а это где-то в сорока километрах от их посёлка. Значит, скоро война придёт к ним, от сознания чего охватывал неимоверный страх и стыд, что наша армия в ожесточённых боях сдаёт врагу сёла и города и он с каждым днём к ним всё ближе и ближе.
Однако унывать, впадать в оцепенение не давала работа, к которой приступали, как никогда, с первыми петухами. Сначала доили коров, кормили свиней, птиц, затем выходили в поля, на ток, откуда каждый день уходили грузовики, гружённые зерном нового урожая.
Порой душными вечерами молодёжь устраивала в клубе танцы. Парни и девчата, казалось, не боялись неумолимого приближения фронта. Но это было далеко не так: танцы отвлекали не только от страшных дум, ведь их молодые души требовали веселья, любовных отношений и они как никогда стремились быть ближе друг к другу; но после танцев, как прежде до рассвета уже почти никто не гулял. Даже домоседки сёстры Настя и Наташа Жерновы, хотя и не всегда, стали похаживать в клуб, впрочем, с того дня как получили от отца письмо, в котором он сообщал, что добился отправки на фронт и скоро уедет на запад бить фашистов…
Марфа не знала: радоваться ей этому или огорчаться? С одной стороны она думала, что Павла оправдали, он не виновен, а с другой – на фронте его подстерегала почти верная гибель. Хотя и отбывать лагерно-тюремное наказание тоже было чревато многими лишениями. А главное, с него автоматически снимался ярлык «врага народа», и отныне она приобретала звание жены фронтовика, что ставило её в один ряд с другими женщинами, проводившими своих мужей на фронт. Марфа незамедлительно постаралась поделиться своей радостью с соседями Зуевыми, чтобы потом узнал весь посёлок о хорошей перемене в её жизни. Алёша в свою очередь похвастался об отце приятной новостью с Машей Дмитруковой, мать которой Прасковья слыла в посёлке первой болтуньей. И вскоре уже знали все, что Павел Жернов попал на передовую. Эту новость бабы потом обсудили на наряде, видели, как Марфа теперь приосанилась, возгордилась снова, как раньше, когда муж стал председателем, и от радости не чувствовала под собой земли.
Но вскоре о ней и муже забыли, поскольку другое событие оттеснило Марфу и её семью, сделавшись предметом долгих пересудов, когда Зина Полосухина вдруг пошла в сельсовет с твёрдым желанием трудиться в городе на любой стройке. И от комсомола её направили якобы неведомо куда. Одни говорили, что Зина учится на курсах медсестёр, и будет работать в госпитале, другие судачили – собралась на фронт, мол, сына скинула на руки матери Ульяне, и когда Прохор ушёл на войну, та осталась с младшей дочерью Майей. Третьи говорили, что Зина просто нагло сбежала в город. А работает в ресторане официанткой, что с Давыдом она развелась ещё до войны. Да и самые дотошные бабы Домна Ермилова, Зина Рябинкина маленькая, коренастая, толстозадая, не в меру пытливая, каждая по-своему без сговора уверяли совсем другое, будто они вместе с Давыдом и Зиной ехали на базар в город на одной подводе и слыхали сами, как молодые супруги бранились. Зина якобы говорила о своей встрече с Клавой Пининой, жившей давно в городе, которая пригласила их в гости. А Давыд считал, что нечего им делать у ветреной городской барышни, лучше день потратить на огороде, чем раскатываться по гостям. И вот тогда Зина будто бы крикнула, что ей надоела такая беспросветная колхозная жизнь, что ей хочется отдыхать, как всем нормальным людям. С Давыдом ей надоело жить. И когда он ушёл на войну, она поехала в сельсовет и развелась с мужем, и после этого осталась в городе.
– А чего же Рубашкин так легко отпустил её, он же не такой – наш Андрон? – спрашивала Антонина Кораблёва. – В это как-то трудно поверить, – усомнилась она.
– Ой, чего ж тут труднова, бабы, – протянула Зина Рябинкина, – Зинка сваво шанса ни за что не упустит. Разве Андрон не мужик, хочь и стар для неё, – и засмеялась рассыпчатым смехом, хватаясь щепотью за свои губы, вертя головой, глядя быстро по сторонам.
– А верно, я помню, как она ещё девкой заигрывала на ферме с Афанасом Натахиным, – подхватила Домна. – Вот в те разы Алинку мою все чихвостили: такой срамной выставляли, а других девок вроде как и не видели.
– Ну разве Афанас такой писаный красавец? – отозвалась Антонина. – Зинка над ним просто смеялась, а вы думали – всерьёз? Дуры, вы, бабы, дуры…
– Теперь она в городе начнёт блудить. А там без этого не обойдётся, – предположила Прасковья Дмитрукова. – и как тильки Ульяна терпит её выходки?
– Дак она, говорят, сама и отпустила дочь, – зашептала Зина Рябинкина. – Мне Ульянка, бабы, сама жаловалась, что зря Капу в своё время в город не отпустила. Потом так жалела, так жалела, а то бы жива была. – Неподражаемо качала она головой, желая передать в полной мере горе Ульяны Половинкиной.
– И правильно она думает! – согласилась Домна. – Девкам надобно увсем в городе находить свою долюшку. А не гнуть спину в чёртовом колхозе. И Зина правильно поступила: была бы я моложе, ушла бы отседова к лешему! – жёстко произнесла она, поведя остроглазо по лицам баб.
– Услыхал бы тебя сейчас Андрон, и полетела бы сизой птицей у Сибирь, ха-ха! – засмеялась Зина Рябинкина.
– И там неплохо: тайга! Нашла чем пугать меня, анчутка! – грубо бросила Домна, которая, ославившись связью с Фадеем Ермолаевым, ничуть от этого не унывала. Наоборот – сожалела, что война под метлу смела всех мужиков. Говорили, будто она вечерами приходила сама к Макару Костылёву в колхозную контору. Макару теперь доставалось от людей, не прощавших ему дочь Шуру, ставшую у него бригадиром, тогда как Алёша на её месте – счетоводом. Хотя бухгалтерию колхоза сразу в двух бригадах по-прежнему вела Шура…
Возле Макара также отиралась и Марфа, отныне довольная тем, что сын Алёша наконец-то занял своё место. И она стремилась к тому, чтобы Макар Пантелеевич и её поставил обязательно кладовщицей после того, как забрали на войну здорового последнего мужика Тихона Кузнехина. Но Макар не мог так поступить. Он долго думал: какой бабе доверить должность кладовщика: Екатерине или Авдотье? Обе женщины ему давно нравились. Но что тогда на это скажут люди, да и перед своей женой, Феней, было совестно, не хотел у неё пробуждать ревность. Собственно, назначение любой бабы кладовщицей вызывало бы у жены недоброе чувство. И тогда Макар остановился на отце Марфы Осташкине Никите Андреевиче, чем его дочь осталась весьма довольной. Но и этот поступок Макара был дружно осуждён людьми, на что он, правда, старался не обращать внимания, не то нынче наступило время, чтобы надо было непременно кому-то угодить. Хотя все видели, что Осташкин, несмотря на престарелый возраст, производил положительное впечатление ещё вполне крепкого старика. Ему было шестьдесят пять лет, серьёзный, рассудительный и честный. И вскоре все успокоились…
После того, как Макар подал в отставку, он пережил немало неприятных минут; тогда это был наиболее приемлемый для него выход. И Макар испытал истинное облегчение, когда снял с себя непосильную ответственность, а тут ещё надломила его смерть отца, который не пережил отставку сына. Но знал бы он, что не пройдёт и двух месяцев, как снова его, Макара, опыт руководителя востребуется. А ведь вполне мог отказаться, однако в трудную годину особо не стал чиниться. Теперь в нём было меньше страха, на людей больше не оглядывался, отныне ему терять было нечего. Вот и поступил в перестановке кадров по личному разумению. Уже в августе колхоз получил распоряжение – изводить понемногу скот, птицу, так как положение на фронте день ото дня осложнялось, а враг неудержимо приближался, заняв уже большую часть Украины и Белоруссии, вступая и на российскую землю. Упорные, кровопролитные бои шли на всём протяжении фронта с юга на север. Из радиосводок было известно, что фашисты на всех парах рвались к Москве, встречая при этом яростное сопротивление наших войск. И всё равно приходилось отступать, так как силы были пока неравные.
Помимо уборки урожая Макара Костылёва волновало неудержимое наступление немцев, которые в любой день могли прийти к ним. Он безмерно сожалел, что его не брали на фронт. А сам напроситься не хотел, так как на него была наложена бронь. Но он боялся работать, когда придут немцы, колхоз не будут эвакуировать и посёлок останется в руках врага. Вывоз скота, свиней, телят, овец производился только в ночное время, а фронт неотвратимо приближался…
Глава 3
Зина, жена Давыда Полосухина, после родов ещё больше похорошела: грудь увеличилась, ведь она вскармливала ребёнка до тех пор, пока он не стал ходить. Фигура её несколько округлилась, вся пополнела. Тяга к городской жизни у неё поселилась ещё с девичества. Когда бывала в городе то ли сама или с ныне покойной сестрой Капой и с матерью, то ли когда ездили на базар, и она неизменно присматривалась к наряженным, накрашенным, нарумяненным городским модницам. И всякий раз грустно вздыхала оттого, что после городских впечатлений ей не хотелось возвращаться в степь, где её вновь ожидала беспросветная глухомань, которая на неё действовала угнетающе. В город тогда в основном ходили пешком: когда же отправлялись гуртом продавать на базар продуктовые излишки, брали в колхозе подводу. В те времена, если не было особой причины для переезда, осесть в городе любому селянину было крайне трудно. Лет десять назад, когда строился паровозостроительный завод и другие производственные объекты, некоторые сельские парни и девушки подавались на стройки социализма строго по комсомольскому набору. Но в те годы Зина ещё только училась в школе, а потом, чтобы удержать в посёлке людей, власти уже никого не отпускали. Зина это знала, но всё равно не переставала грезить о городе, даже выйдя замуж. Особенно сильно она мечтала о городе, когда поняла, что Давыда она почти не любила, а выходила за него исключительно по уговору матери. Впрочем, сначала Давыд ей нравился весёлым, насмешливым характером, слывя работящим, хозяйственным, чего у него действительно было не отнять. А когда стала его женой, Зина увидела, что Давыд любит ею командовать: норовит поучать как надо полоть картошку, как убирать в доме, ухаживать за коровой, будто до него всего этого она делать ничего не умела. Из-за этого, собственно, между ними начались ссоры, поскольку Зина обнаружила в себе крайне самолюбивый нрав. И Давыд, видя, что к жене чересчур требователен, что к добру это не приведёт, стал менее властен. К тому же Зина порой, чтобы подействовать на мужа, запальчиво бросала, что уедет жить в город. Давыд же, не желая быть уязвлённым, над ней ехидно посмеивался:
– Да тебя там никто не ждёт, да ещё с ребёнком, – говорил он. – Была бы моя воля (жаль, что теперь этого делать нельзя), я бы тебя ремешком отхлестал, чтобы знала, как мужу перечить. Городская выискалась, с вшивой задницей…
– А мне не надо, чтобы кто-то меня там ждал, сама устроюсь, без твоих сопливых. Ты сам вшивый и нечего оскорблять! Это тебе не старое время: женщины с мужиками нынче все равны…
– В городе хорошо только уличным распутницам и ты попадёшь туда запросто, как там окажешься без крыши над головой, без копейки в кармане. И что ты заладила: уйду, уйду. Только бы на нервах поиграть? – с досадой прибавил Давыд, уже начиная думать, будто жена и впрямь не шутит.
– А ты не приставай со своими дурацкими наставлениями. Думаешь, ты умней меня? Да ничуть! Просто ты наглый, как твой танк, на котором служил, – с обидой вырвалось у неё.
– Ладно, ладно, Зиночка, больше не буду. Ты такая хорошая, умная хозяюшка, – Давыд нарочно смягчил обстановку и жена, поплакав, была прежней. Но это ему только так казалось, поскольку недовольство колхозной малоинтересной жизнью продолжало медленно бродить в ней. Конечно, с виду она была вроде бы такой же, как и раньше, не забывающей обязанности жены, хозяйки, матери. И жизнь молодой семьи текла по-прежнему. Ссоры, однако, начинались и по другим причинам, а порой так даже внешне как будто и беспричинно. Иногда молодая женщина не давала себе отчёта, почему вдруг ей манилось ругаться с мужем? Может, только оттого, что Зина совсем разлюбила Давыда, так как он был с ней ласков в постели до тех пор, пока это было необходимо ему. А потом быстро остывал, в то время как она лежала вся в нервном оцепенении, не понимая того, что с ней происходило. И когда в следующий раз наступал момент супружеской обязанности, она уже боялась повторения прошлого состояния, а чтобы его больше не испытывать, Зина уклонялась от ласк мужа, говоря, что у неё дурное настроение. Давыд раздражался, обзывал жену капризной и почти силой добивался удовлетворения без её на то желания, что вызывало у жены обиду, которую она пыталась не показывать мужу. Со временем Зина научилась притворяться: если ей с ним хотелось близости, она была сдержанна. Ей стало очевидно, что Давыд совершенно не угадывает её природные потребности. Впрочем, в них она тоже плохо разбиралась, и принимала мужа в постели со всеми его недостатками, довольствуясь его неумелыми поцелуями…
Когда Зина бывала в городе, она задавалась далеко не праздным для себя вопросом: какие в постели городские мужчины? Хотя тут же осудила себя за такое любопытство, что ведёт, как распутная женщина, которая об этом только и думает. Но Зина хотела оправдать себя, что такое любопытство проявляет не одна она; наверное, так думают и другие замужние сельские женщины, которые тоже несчастливы со своими мужьями. Ей почему-то казалось, что городские мужчины совсем другие. Зина считала, будто они намного просвещённей сельских во всех сторонах жизни, а значит, больше сведущи и в любви. Хотя внешне от сельских они мало чем отличались. На тех же, кто казался недоступным в силу того, что был одет в дорогие костюмы, она не могла смотреть без внутреннего трепета, несмотря на всю их внешнюю непривлекательность. Обыкновенно рядом с ними были такие же немыслимо нарядные и красивые женщины, которым она до глубины души завидовала и чрезвычайно сожалела, что она уродилась совершенно несчастливой…