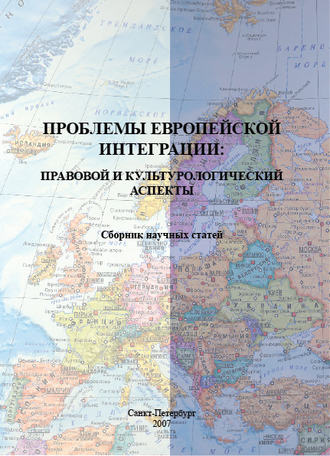
Полная версия
Проблемы европейской интеграции: правовой и культурологический аспекты. Сборник научных статей
Специфическое отношение к правам человека имеет место и на государственном уровне, среди представителей власти и служащих государственного аппарата Российской Федерации. Возвеличивание роли государства и одновременно традиционно пренебрежительное отношение к человеку («просителю»), широкий бюрократический произвол, с одной стороны, а с другой – постоянная забота о поддержании высокого авторитета страны на международной арене – переводят в сознании чиновников проблему понимания прав человека в русло международной политики и дипломатической целесообразности. Права человека для государственных чинов – это прежде всего вопросы выполнения Российской Федерацией своих международных обязательств. Весьма показательно по этому поводу высказался Уполномоченный по правам человека РФ В. П. Лукин: «…Опыт нашего развития наглядно продемонстрировал, что Россия значительно более успешно становится международно-правовым государством, чем просто правовым».[17]
Важно также отметить, что большинство населения России – русские[18] – воспринимают права человека на принципах православной культуры. А православие ориентирует человека на духовное преображение, внимание уделяет не столько защите материальных притязаний (рассматривая земные блага как относительные, хотя и не отвергает их), сколько развитию личности и ее духовного мира, предпочтение отдает правам, за которыми стоят духовные, а не материальные интересы. Двум основным ценностям прав человека – свободе и человеческому достоинству – оно отводит соподчиненные места, считая, что свобода нужна для обеспечения достоинства личности, но не наоборот. Поэтому главным аспектом понимания прав человека оно ставит позитивное развитие общественных отношений и воспитание личности, что во много раз усложняет понимание и решение задач правочеловеческой поддержки.
В апреле 2006 г. состоялся Х Всемирный русский народный собор, который принял Декларацию о правах и достоинстве человека и предложил обществу свою позицию и свое видение прав. В частности, в Декларации сказано, что необходимо различать добро и зло как нравственный закон, который имеет основу в душе каждого человека и который не зависит от культуры, национальности и жизненных обстоятельств. Права человека имеют своим основанием ценность личности и должны быть направлены на реализацию его достоинства, поэтому содержание прав человека не может быть не связанным с нравственностью. Православная вера выступает за право на жизнь и против «права» на смерть (это ответ на вопрос о праве на эвтаназию), за право на созидание и против «права» на разрушение (что имеет прямое отношение к решению проблемы клонирования и вмешательства в геном человека). Она признает права и свободы человека в той мере, в которой они охраняют личность от внутреннего и внешнего зла, позволяют ей положительно реализоваться в обществе (это к вопросу, например, об однополых браках). Православная культура неразрывно связывает права с обязанностями и ответственностью каждого перед своими близкими, семьей, местной общиной, народом, всем человечеством в целом. В Декларации подчеркивается, что вера, нравственность, святыни и Отечество – ценности, которые стоят ничуть не ниже прав человека, поэтому осуществление прав не должно подавлять веру и нравственную традицию, оскорблять религиозные и национальные чувства, почитаемые святыни, угрожать существованию Отечества. Опасно также «изобретать» права, которые узаконивали бы поведение, осуждаемое традиционной моралью и историческими религиями. Отвергается политика двойных стандартов в области прав человека для продвижения интересов определенных сил и навязывания государственного и общественного строя, чуждого народу. Православная церковь призвала к диалогу людей разных вер и взглядов по вопросам прав человека.
При анализе возможностей интеграции России в европейские стандарты по правам человека нельзя не учитывать и российские духовно-культурные традиции. Этико-центричный тип российского сознания, его акценты на смысложизненных началах бытия оценивают человеческие права в контексте высшего предназначения человека, а не как в Европе – прагматично. Генезис российского правосознания протекает главным образом путем непосредственного вхождения в суть и смысл жизни, а не через усвоение некой рациональной схемы поведения и внешнего приказа. А. С. Панарин в свое время отмечал: «В России личностный вклад в тот или иной вид деятельности бывает либо больше того, что функционально запрограммировано, если личность ценностно ангажирована, либо несравненно меньше требуемого, если она индифферентна по отношению к сверхзадачам».[19] Поэтому российская духовная традиция наделяет права человека ценностно большим статусом и придает им много большее влияние на повседневность, чем западная, которая уповает на каждодневно изменяющиеся интересы. Правозащитник и кинорежиссер А.Симонов дал, например, такую характеристику человеческим правам: «Это часть нашей жизни, как дождь или снег», права – «не восемь статей в Конституции плюс девятнадцать – во Всеобщей декларации прав человека», а «нечто гораздо большее, пронизывающее всю нашу жизнь».[20]
Таким образом, очевидно, что российская культура ставит перед правами человека очень высокие интеллектуальные, политико-юридические и организационно-воспитательные сверхзадачи. Они воспринимаются не только в качестве юридического инструмента защиты индивидуальных притязаний, а как гуманистическая программа – программа реализации идеалов, формирования личности, ее духовно-нравственного и гражданского сознания.
На первый взгляд, отмеченные особенности свидетельствуют о непреодолимых различиях России и Европы в понимании смысла и целей прав человека. Однако если в сопоставительном плане проанализировать различия, которые имеют место в видении и интерпретации прав на Западе и незападных странах, то оказывается, что Россия много ближе и имеет общие основы (ценности) именно с западной (европейской) концепцией прав, но не с незападным миром (хотя и тут можно обнаружить нечто сходное).[21] Это связано и объясняется прежде всего тем, что права человека – западный феномен, который стал известен в нашей стране, благодаря заимствованию научных идей и законодательной практике (помимо, конечно, их востребованности на уровне общих закономерностей социального развития).
Схематично и кратко эти общие российские и европейские ценности, обосновывающие права человека и отличающие их от незападных подходов, можно обозначить следующим образом: установка на принцип личности (а не группомерного человека, как на Востоке); тенденция к индивидуализации (а не к коллективному образу жизни); стремление к свободе и равноправию (а не к гармонии и солидарности); ориентир на демократию (а не на клиентские и иерархические отношения); светский характер прав, отражающий социальный плюрализм (в противовес дарованным и сакральным по происхождению правам в понимании не-Запада); гуманизм (а не теоцентризм) как мировоззрение прав; взаимосвязь прав и обязанностей (а не примат обязанностей и долга перед правами); приоритет законодательного (а не этического, религиозного либо обычного) регулирования общественных отношений; отказ от патернализма; интенсивное развитие юридических механизмов защиты прав; ощущение россиянами (русскими) себя европейцами и т. д.
Таким образом, российская модель и европейские стандарты прав человека по заложенным в них ценностям вполне совместимы, и последние свидетельствуют об успешности возможной более тесной российско-европейской интеграции. Имеющиеся же различия формируют понимание и ориентируют на отказ от однолинейного проведения такой интеграции для всех стран. Проблема, однако, в другом – в настоящее время недостаточно воли и желания сторон (России и Европы) для осуществления вполне реальных и даже необходимых для европейских народов интеграционных процессов, в том числе и в сфере прав человека.
И. Л. Честнов (Санкт-Петербург). Мультикультурализм и право
Тенденции, происходящие в современном мире, отличаются двумя противоположными векторами: глобализацией и локализацией. Возможно, движение социальных групп, культур и обществ к локализации представляет собой ответную реакцию на глобализацию, шагающую темпами, опережающими возможности психологической адаптации. Нивелирование различий вызывает вполне оправданное стремление сохранить свою самобытность.
Особое значение при этом придается сфере культуры – культурной самобытности наций, этносов и даже отдельных групп. При этом движение к культурной автономии обнаруживается все в большей степени на локальном уровне – местного самоуправления. С одной стороны эта тенденция не может не приветствоваться, хотя бы в силу важности, ценности любой культуры. Более того, для выживания человечества унификация, сопровождаемая процессом глобализации, должна быть уравновешена минимумом разнообразия. Но, с другой стороны, чрезмерное развитие локализации ставит под сомнение не только существование национальной культуры, существующей на уровне отдельного социума, но и их управляемость.
Обозначенная проблема имеет прямое отношение к праву, выступающему формой фактически существующих общественных отношений. Одновременно реформирование законодательства должно учитывать тенденции, происходящие, в том числе, в культурной автономизации и сегментаризации современного общества.
Осмыслением очерченной проблемы в 80–90-х г.г. ХХ в. занялись, прежде всего, социальные философы. Наиболее перспективным направлением их исследований явилась концепция мультикультурализма, сформулированная одним из первых Ч. Тейлором.[22] Представители мультикультурализма небезосновательно утверждают, что содержание современного общества образовано множеством культур, отличающихся разнородными, порой противоречащими друг другу ценностями. Важно то, что человек существует сразу одновременно в нескольких культурных сферах-пространствах.[23] Поэтому сегодня не существует замкнутых, самодостаточных, целостных культур. Любая культура, очерчиваемая привязкой к социуму, языковой нации или территории, характеризуется множественностью значений, ей приписываемых, различающимися (может быть не противоположными, но разными) ценностными ориентациями.[24]
Мультикультурализм в области права утверждает, что поскольку отсутствует единая для всех времен и народов культура, выражающаяся как законченная система ценностей, а также рационально обоснованная иерархия ценностей,[25] постольку каждая культурная группа имеет (должна иметь) свою систему правовых норм и руководствоваться только ею. При этом культурные различия объявляются основополагающими, фундаментальными (так как именно они обеспечивают идентичность людей), всякое внешнее воздействие на эти различия должны оцениваться как величайшая несправедливость.[26]
Правовая политика, выражающаяся в законодательстве, реагирует в странах Запада на претензии все большего числа групп на юридические закрепление их автономии и предоставления особого правового статуса двояко. Политика ФРГ, например, состоит в интегрировании гастарбайтеров в правовую систему, но не в силу их членства в конкретной этнической группе, а на основании их правового статуса как индивидов. Отдельные права им предоставляются как работникам и личностям. Конституция ФРГ, таким образом, предоставляет отдельным индивидам определенные права просто потому, что они человеческие существа. Именно эта корпоративная стутусная идентичность обеспечивает таким людям определенные наборы прав и льгот.[27] Иная система существует в Нидерландах. С 1982 г. там законодательно определена группа этнических «официальных меньшинств». Когда этническая группа добивается статуса официального меньшинства, получают удовлетворение ее претензии на социальную поддержку в жилищной и образовательной областях, в сфере занятости и др. Одновременно эти группы приобретают права на учреждение культурных, религиозных и образовательных организаций, а также обучение своим родным языком в качестве второго языка. Таким образом, голландцы практикуют модель «культурных анклавов» и «сохранения культур».[28]
Эту двойственность политики мультукультурализма анализирует Н. Рулан. Юристы, по его мнению, вырабатывают некоторое число категорий, отнесение к которой индивида означает для него определенные правовые последствия. Их формирование и многократное увеличение ставит под сомнение «республиканский принцип» – принцип равенства. Другими словами, наделение отдельных лиц или групп особым правовым статусом, свидетельствует о том, что в равенстве могут быть различия.[29] Так, например, французское законодательство не признает особый статус (а значит юридические существование) корсиканцев как нации[30] или даже этноса, хотя признает таковой за коренными народами «заморских территорий».[31]
В общем и целом принцип формального равенства предполагает, что права человека относятся исключительно к отдельным индивидам, а не отдельным группам.[32] Поэтому «позитивная дискриминация» (особый правовой статус) допускается, как, например, формулируется в решениях Конституционного совета Франции, только исходя из разницы в социальном положении или в целях общественного интереса.[33] Однако очевидно, что граница (мера) разницы в социальном (и культурном) положении, признаваемом дискриминационным, весьма относительна и контекстуальна: в одни исторические эпохи и у одних культур-цивилизаций это одни критерии отнесения различий к «нетерпимым», а значит – дискриминационным, а в другие (и у других) – иные. В любом случае универсальных критериев такого выделения и, следовательно, наделения определенных групп, категорий населения определенным правовым статусом, не существует. Это зависит, прежде всего, от господствующего в данную эпоху и в данной культуре мировоззрения, формирующего общественное мнение.
Это же касается и такой категории, как «общественный интерес» или «общее благо». По мнению либералов общественного интереса как реально существующей целостности не существует, а следует вести речь об интересах отдельных личностей. Поэтому, как утверждает Р. Дворкин, ограничения прав человека ссылками на общественный интерес, общественную безопасность и т. п. недопустимо.[34] Проблематичность такого подхода состоит в том, что мера (ограничения) прав человека определяется свободой другого. Другими словами, объем моих прав ограничен правами другого. Но ограниченность ресурсов, объектов притязаний (например, государственных должностей, льгот и пособий) неизбежно приводит к конфликту притязаний одного индивида и другого. Либеральная конструкция меры прав человека разрешить этот конфликт не в состоянии.
По мнению же сторонников коммунитаризма мера прав человека определяется господствующими в обществе убеждениями.[35] Такой подход представляется гораздо более предпочтительным по сравнению с красивой утопией либерализма, уповающих на «золотое правило». Именно признание, выражающееся в массовом поведении и ментальном образе-оценке соответствующего института, должно определять (и определяет на уровне обычаев) отношение населения к социальным (и правовым, в том числе) институтам, которые суть мера возможного, должного или запрещенного поведения. Одновременно господствующие в социуме предпочтения и оценки должны определять категории населения, которые могут претендовать на особый статус (в том числе, и правовой).[36] Выявление критериев признания множества фактически существующих и требующих юридического оформления социокультурных групп (категорий) населения – важнейшая задача социальной антропологии права, которая настоятельно требует серьезных научных исследований.
А. В. Шахматов, Н. Н. Бухаров (Санкт-Петербург). Нелегальная миграция – новая угроза общественной безопасности
В настоящее время мы являемся свидетелями достаточно сложных процессов, происходящих в мире. Идет трансформация не только устоявшейся системы международного права и международной безопасности, но трансформация ранее существовавших угроз.
Одной из таких угроз является нелегальная миграция. Являясь результатом естественного стремления человека к проживанию в наиболее благоприятном месте, миграция приобретает все более угрожающие размеры. Мигранты, заселяя новые районы, несут свои порядки свое миропредставление, зачастую не желая ассимилироваться с коренным населением и даже более того, противопоставляя себя ему.
Но если легальную миграцию можно и нужно контролировать направляя ее потоки в необходимое для государства русло, то с нелегальной миграцией бороться гораздо сложнее.
К текущему моменту нелегальная миграция из числа второстепенных перешла в разряд глобальных проблем, стала вызовом мировому сообществу, масштабы и возможные последствия, обострения которого могут представлять серьезную угрозу международной стабильности и устойчивому развитию государств.
Являясь одной из актуальных проблем современности, неконтролируемая миграция населения, по мнению специалистов, не ослабеет и в ближайшие десятилетия. Это особенно отчетливо наблюдается в условиях глобализации экономики. По данным ООН, нелегальная миграция стала крупным источником доходов для международных преступных группировок. Складывающаяся обстановка ставит вопрос о конструировании более эффективной системы пресечения нелегальной миграции. Она, естественно, должна базироваться на фундаменте международного права, его институтов, прежде всего Международной организации по миграции, Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, других заинтересованных международных и региональных структур.
Серьезность этой проблемы заставляет правительства стран, в которые устремляются потоки нелегальных мигрантов, ставить вопрос, как было сказано в заявлении вице-премьера испанского правительства Терезы Фернандес да ла Веги, «немедленно сформулировать общие предложения относительно борьбы с нелегальной миграцией» для стран, которые являются поставщиками нелегальной миграции.
Так, только в 2006 году в Европу через Канарские острова пытались нелегально проникнуть свыше 18 тыс. африканцев, что в два раза превышает аналогичный показатель за предыдущий год.
Однако не только Африка является регионом, откуда стремятся попасть в Европу нелегальные мигранты.
По данным министерства иностранных дел Украины, сейчас в Испании находится свыше 21 тыс. легальных граждан Украины и почти 82 тыс. украинцев-нелегалов. Актуальной проблема нелегальной миграции является и для России. У нас в стране, так же как и в Европе, с каждым годом количество незаконных мигрантов увеличивается. По разным оценкам, сегодня в их количество достигает 10–15 миллионов человек.
Усугубление данной ситуации приведет к порождению более глобальных экономических проблем и конфликтов между коренным населением и переселенцами, нежели те, свидетелями которых мы являемся.
Вместе с тем следует признать, что не всю незаконную миграцию можно осуждать одинаковым образом. Наибольшее беспокойство, в первую очередь, вызывает незаконное передвижение, связанное с торговлей людьми. Так же из мигрантов необходимо выделять беженцев. Согласно Женевской конвенции 1951 г. (параграф 31.1), их поведение (незаконное пересечение государственной границы в поисках личной безопасности) считается противоправным, но не влечет за собой уголовной ответственности.
Таким образом, одни незаконные передвижения являются прямой угрозой международной стабильности и национальной безопасности, в то время как другие, непосредственно таковыми не являясь, вызывают опасения только тогда, когда их перемещение имеет значительные экономические и общественные последствия. Прежде всего должны быть остановлены незаконные передвижения боевиков и наемников из других стран, представляющие безусловную угрозу в полном смысле этого слова. Что касается торговли людьми, то она является угрозой по различным основаниям. Почти всегда управляемое криминальными организациями, ищущими обогащения и власти, это особенно жестокое и суровое явление, которое может иметь крайне негативные последствия для стабильности отдельной страны. Борьба с этим явлением очень трудна и требует огромных ресурсов и средств. Однако нельзя считать a priori преступниками тех, кем торгуют. Жертв намного больше, чем тех, кто занимается незаконной торговлей, и эти жертвы просят защиты со стороны законных властей. Законодательства некоторых стран уже предусматривают защиту для лиц, пострадавших в результате торговли. В отличие от незаконной торговли людьми, люди в поисках работы, которая часто является нелегальной, сами по себе не представляют угрозы для безопасности. В любом случае, наличие криминальных лиц не должно быть причиной обобщений, часто незаслуженных, которые весьма нередко присутствуют в средствах общественной информации. Криминальные элементы должны быть изолированы и содержаться соответствующим образом.
Следует помнить о существующей поговорки, что миграция – дочь бедности. Это значит, что невозможно обсуждать вопрос миграции без содействия прогрессу малообеспеченных народов. Среди необходимых действий в этом направлении необходимы попытки сделать более доступными для всех международные экономические процессы и финансовые ресурсы.
В борьбе с этой проблемой, имеющей социальные, экономические, геополитические и политические аспекты, необходимо двустороннее, региональное и многостороннее международное сотрудничество.
Представляется, что снизить негативные последствия нелегальной миграции можно только при условии тесного взаимодействия с сопредельными странами и мировым сообществом в целом, а также принятия всеми государствами скоординированных мер в самых различных сферах – политической, социально-экономической, законодательной.
А. Ю. Пиджаков, С. С. Жамкочьян (Санкт-Петербург). Расширение Европейского Союза: вопросы таможенного регулирования
Европейский Союз сегодня – мощное межгосударственное объединение, включающее в себя 27 европейских стран. В отличие от многих международных соглашений, включающих в себя иногда и большее количество участников, ЕС кардинально перестраивает основополагающие принципы существования входящих в него государств-членов, устанавливает новые стандарты, вводит механизмы их соблюдения, меняющие баланс защиты прав и интересов. Уже сам этот факт делает ЕС весьма интересным объектом для изучения, в том числе для российских специалистов.
Формирование права Европейского Союза – еще один основополагающий результат интеграционных процессов; строящаяся правовая система оказывает заметное воздействие на юридические системы во всем мире, и не в последнюю очередь – в России, отметим, основном внешнеторговом партнере ЕС.
Присоединение новых членов к Союзу означает для них длительную кропотливую работу по приведению своего государственного устройства в соответствие с союзными требованиями. Эта работа включает в себя проведение реформ в самых различных областях, но в обязательном виде – реформирование правовой системы, с тем, чтобы применение права ЕС было возможно на тех же условиях, что и в других государствах-членах. В зависимости от исходных условий, меняется сложность этой работы в каждом государстве-кандидате на вступление.
Сама сущность этих реформ, а нас, прежде всего, интересует их правовая составляющая, представляет собой несомненный интерес для российской правовой науки. Это позволяет по новому взглянуть на ближайших российских соседей – страны Прибалтики, Восточной Европы, рассчитать возможные сценарии и определить новые стандарты их поведения.
Наконец, отдельный вопрос составляет заимствование опыта «постепенного» вступления, с длительной подготовкой и переходным периодом, для новых государств-членов. Президент России В. В.Путин в своем ежегодном общении с прессой обозначил интерес России к дальнейшему развитию межгосударственного сотрудничества на постсоветском пространстве в рамках Евразийского экономического сообщества, к которому в 2006 г. присоединился Узбекистан, рассматривается возможность вхождения других государств постсоветского пространства. В этом смысле опыт расширения европейских соседей представляется как минимум интересным и полезным.
Используемый в документах англоязычный термин «accession» одновременно, согласно Словарю английского языка Вебстера, означает как прибавление, увеличение или расширение, так и вступление (в ряды).[37] Представляется, что здесь многозначность английского языка как нельзя лучше передает двусторонний характер процесса: с одной стороны, это означает распространение влияния Европейского Союза на новые территории, с другой стороны – принятие новым государством-членом на себя определенных прав и обязанностей.
Вхождение в Европейский Союз означает восприятие государством-членом всех учредительных договоров, со всеми изменениями и дополнениями, существующими на момент присоединения.[38] Вместе с тем, существует ряд изъятий из статуса полноценного государства-члена и ограничений. Так, например, участие в более сложном экономическом и валютном союзе для новых членов ограничено ст. 122 Договора о ЕС. П. 12 ст. 6 Акта о присоединении предусматривает обязательство новых членов по пересмотру их позиции в международных организациях, если это необходимо и по тем международным соглашениям, в которых участвуют Сообщество или государства-члены, в соответствии с правами и обязанностями, происходящими из их присоединения к Союзу.









