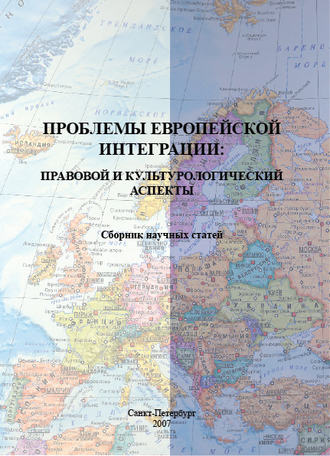
Полная версия
Проблемы европейской интеграции: правовой и культурологический аспекты. Сборник научных статей
Единый европейский акт 1986 г., внесший изменения и дополнения в Римский договор, уточнил и несколько расширил компетенцию ЕС в области трудового права, в частности, обозначил такие направления правотворчества как оздоровление производственной среды, содействие заключению европейских коллективных договоров, сближение социальных институтов.
В 1989 г. была принята Хартия основных социальных прав трудящихся (Социальная хартия ЕС), которая сформулировала принципиальные положения, касающиеся содержания социальных и трудовых прав. Именно этот документ стал исходной базой развития трудового законодательства стран Евросоюза, хотя в отличие от основополагающих программных актов ЕС он не является договором и его положения носят рекомендательный характер. Перечень прав и свобод, составляющих содержание Социальной Хартии ЕС, принято группировать по 12 направлениям: свобода передвижения; занятость и заработная плата; улучшение условий жизни и труда; социальная защищенность; свобода ассоциаций и право на коллективные договоры; профессиональное обучение; равенство мужчин и женщин в сфере труда; информация, консультации, участие работников в управлении производством; защита здоровья и безопасности работника на рабочем месте; защита детей и подростков; защита пожилых трудящихся; защита нетрудоспособных.
В 1992 году в Маастрихте появились два важных документа – Протокол о социальной политике и Соглашение о социальной политике – и оба они приложены к Договору о Европейском Союзе. В этих актах упор делается на выполнение положений Хартии, особенно в том, что касается безработицы и условий труда на рабочем месте. Так, положениям Хартии было придано прямое действие, что оказало влияние как на развитие права сообществ, так и национального права государств-членов.
Проведение общей социальной политики в Европейском Союзе – задача сложная. В этой связи Соглашение представляет собой определенный шаг вперед в закреплении трудового права по сравнению с первыми учредительными договорами. Среди главных постулатов социальной политики в сфере труда следует назвать пять: социальная безопасность и социальная защита работников; защита работников в случае прекращения трудового договора; представительство, в том числе коллективное представительство интересов работников; улучшение условий труда граждан третьих государств; финансовая поддержка занятости и создание новых рабочих мест, осуществляемая без ущерба для социальных фондов.
В этот же период была опубликована Зеленая книга о будущей социальной политике сообществ (1993 г.), за которой последовала Белая книга о европейской социальной политике (1994 г.). Эти документы построены на идее параллельного и взаимосвязанного развития экономической и социальной политики. Они содержат следующие принципиальные положения в сфере труда: приоритет обеспечения занятости путем создания рабочих мест; усиление равенства шансов посредством мер, направленных на приспособление систем образования и профессиональной подготовки к требованиям рынка труда; проведение конкретных мер по созданию европейского рынка труда и преодолению всех препятствий на пути к свободе движения работников; улучшение условий труда, включая безопасность и защиту здоровья на рабочем месте.
С присоединением Великобритании к Соглашению о социальной политике и включением этого документа в текст Амстердамского договора социальная политика Евросоюза стала действительно единой, охватывающей все 15 государств. Кроме того, Амстердамский договор включил серию из пяти новых статей по отдельным вопросам занятости. В них говорится о том, что координированная стратегия подразумевает обязанность государств-членов и сообществ поддерживать развитие квалифицированной рабочей силы и рынков труда, адекватных переменам в экономике.
С началом нового тысячелетия все больше сторонников набирает идея замены учредительных договоров как «основного закона» Евросоюза полноценной его Конституцией. Для этого уже сложилось немало предпосылок. Европейский Союз хоть и не государство, но организация политической власти с собственным аппаратом управления, а в не столь отдаленном будущем, возможно, и принуждения. Первым шагом в принятии будущей «Европейской конституции» призвана служить Хартия об основных правах, которую согласно инициативам Европарламента подлежит включить в структуру Конституции в качестве ее первого раздела.
Своеобразной отличительной чертой Хартии об основных правах – ее структура. Традиционно основные права классифицируются на три категории: сначала излагаются личные права, затем политические, и, наконец, социально-экономические. В Хартии они присутствуют, но классифицированы и, соответственно, расположены по-другому. Основные права сгруппированы не по видам, а в соответствии с общими ценностями или принципами, на защиту которых они направлены: достоинство, свобода, равенство, солидарность, гражданство, правосудие. Каждому принципу посвящена отдельная глава. В целом же Хартия состоит из преамбулы (которая сама по себе не содержит юридических норм, а указывает на причины, цели и источники декларации) и 54 статей, сгруппированных в семь глав (последняя содержит нормы, определяющие действие документа в целом и его соотношение с другими источниками основных прав и свобод).
Наиболее интересна в аспекте интересующих нас вопросов глава IV Хартии основных прав – «Солидарность». Большинство ее норм закрепляет трудовые и тесно связанные с ними права наемных работников: на информацию и консультации на предприятии; на коллективные переговоры и коллективные действия, включая право на забастовку; на благоприятные и справедливые условия труда; на защиту в случае необоснованного увольнения; на обращение к службам занятости; на защиту детского труда и защиту молодых людей на рабочем месте и другие. Здесь же получили закрепление обязанности органов публичной власти в социальной сфере в форме корреспондирующих им социальных прав: на социальное обеспечение и социальную помощь, охрану здоровья и т. д. В целом глава отражает в себе доктрину социальной солидарности между трудом и капиталом и отличается наибольшей детальной проработкой своих положений.
В главе I «Достоинство» провозглашаются права личности, обеспечивающие возможность жизнедеятельности человека во всех сферах. Среди них выделим ст. 5 о запрещении рабства и принудительного труда. Глава II «Свободы» закрепляет юридические границы личной свободы человека применительно к отдельным сферам его жизнедеятельности. К сфере труда примыкает содержание трех статей этого раздела: ст. 6 «Защита данных личного характера», ст. 12 «Свобода собраний и свобода объединений» и ст. 15 «Свобода профессиональной деятельности и право на труд». И, наконец, глава III «Равенство» не только закрепляет принцип равенства (юридического и социального), но и содержит гарантии в отношении социальных групп, нуждающихся в специальной защите со стороны общества. Применительно к сфере труда принцип равенства не только обеспечивает комплекс социально-трудовых прав, но и создает условия для реализации прав и свобод менее «самостоятельных» слоев общества, которые не способны своими силами осуществить эти права.
Учредительные документы ЕС составляют так называемое «первичное право» государств Евросоюза. Их значение состоит в том, что содержащиеся в них нормы непосредственно регулируют трудовые отношения в странах ЕС, имеют приоритет по отношению к национальному праву и их реализация не требует принятия соответствующих национальных законов. В этой связи нормами «вторичного права» являются акты, издаваемые органами Евросоюза в рамках своих полномочий на основе «первичного права». Это – регламенты, директивы и рекомендации, различающиеся по своей юридической силе. Регламенты – акты прямого применения, не требующие ратификации или иного признания государствами-членами. Так же как и первичные нормы они имеют приоритет над национальным законодательством. Директивы не имеют прямого действия. Они реализуются в национальное право через соответствующие акты, которые обязано издавать каждое государство. Однако, директива всегда имеет обязательную для государства силу в плане провозглашенных в ней целей. В этой связи она становится обязательной для участников ЕС, даже если последние не реализовали каким-либо способом предписания этого документа. В обозначенном случае директива приобретает прямое действие как бы «наполовину»: на нее можно ссылаться гражданам, защищающим свои права в национальном суде, когда ответчиком выступает государство. В то же время, если ответчик – гражданин, директива не имеет непосредственной силы, и на нее нельзя ссылаться при обосновании исковых требований. Рекомендации ЕС никогда не носят обязательного характера. Они имеют целью облегчить государствам-членам их законотворческую деятельность, наполнить правовые нормы более широким и конкретным содержанием, очертить возможности и перспективы совершенствования того или иного правового института.
Деление права на первичное и вторичное – лишь отличительная особенность правовых источников ЕС в сравнении с нормативной базой других международных организаций. В целом же значение трудовых стандартов ЕС достаточно велико. Они составляют правообразующую основу нового типа – европейского трудового права, входящего в систему европейского права и действующего на значительной части Европейского континента.
Теоретическая значимость и практическая ценность существования международных европейских трудовых стандартов заключается в том, что они способствуют унификации национального законодательства и тем самым обеспечивают всем работникам равные возможности реализации трудовой функции и равные базовые условия труда.
Имплементация актов трудового законодательства в национальное право осуществляется различными способами. Это может быть прямое применение международных норм в случае ратификации государством конвенций, как, например, предусмотрено в России, Франции, Бельгии и других странах. Любое государство может заранее (до ратификации) привести национальное законодательство в соответствие с положениями международного договора или рекомендации либо включить в текст внутренних законов положения ратифицированных и не ратифицированных стандартов. Положения международных актов используются при подготовке текстов коллективных договоров. И, наконец, изменение внутреннего законодательства происходит при учете замечаний контрольно-надзорных и судебных органов международных организаций.
Международные трудовые нормы – один из каналов, через который результаты достижений отдельных государств в социально-трудовой сфере становятся известны, а, в случае их внедрения на национальном уровне, и доступны для широких слоев населения. Их назначение состоит в том, чтобы служить дополнительным стимулом развития и совершенствования правовой системы каждой страны, способствовать укреплению механизма защиты прав трудящихся.
Л. И. Глухарева (Москва). Российская и европейская модели прав человека: основы для интеграции
Для оценки того, имеется ли в России соответствующие условия и показатели, свидетельствующие о возможности интеграции российской системы в европейское пространство прав человека, более тесного сотрудничества в сфере прав человека нашей страны с Европой (с Советом Европы), нужно определиться прежде всего в тех ценностях (подходах, целях, характеристиках и т. п.), которые сформировали европейскую модель прав, уяснить черты и особенности европейской традиции, которая собственно и породила идею и практику человеческих прав. Представляется, что с этой точки зрения ее (европейскую модель прав) отличает следующее.
Во-первых, она воплощает либерально-социальные ценности и, соответственно, демонстрирует все их положительные и негативные стороны. Европейская модель прав выражает свободу личности (меру свободы каждого). Поэтому считается, что правами человека в собственном значении этого слова (понятия) нужно называть только гражданские и политические права, защищающие свободу, автономию и самостоятельность индивида. Социально-экономические же права – не есть «права» в юридическом прямом и буквальном смысле, это результат политики социального государства, форма выражения солидарности общества, своего рода партнерских договоренностей государства и общества в деле помощи слабым и обездоленным.
Во-вторых, права человека как свобода – это возможности каждого самостоятельно, своими действиями добиваться своих целей, удовлетворять свои интересы. Они не воспринимаются как результат чьего-либо благодеяния. Предполагается, что наличие прав зависит главным образом от усилий самого человека. Кто их знает, тот – и имеет. Права – продукт самодеятельности самого индивида, его усилий. Поэтому они характеризуются как естественные, неотчуждаемые и равные для всех. Стимулируя активность личности, активное освоение и преобразование окружающей действительности, права приучают человека к самостоятельности, а значит – прививают чувство ответственности за свои поступки, формируют поведенческую установку на повседневную борьбу за свои права.
В-третьих, презумпция обладания каждым лицом свободой, закрепление равной меры свободы за каждым породили на началах взаимности важные для сферы прав правила – уважать свободу другого (других), запрет злоупотреблять своими правами, отказ от всяких видов дискриминации. Равноправие и равная мера свободы для каждого – важнейшая ценность сферы прав человека.
В-четвертых, акцентируя высокую значимость свободы и самостоятельности отдельного лица, устанавливая механизмы защиты от вмешательства в жизнь отдельного индивида других лиц и государства, права человека в европейском социуме абсолютизировали индивидуализацию личности. Индивидуализм для прав человека стал базовой идеей.
В-пятых, в сознании населения европейских стран права человека – это главным образом юридический (политико-юридический) институт, которым нужно уметь повседневно пользоваться и с его помощью решать каждодневные проблемы. Права человека подлежат выражению в законе, который не воспринимается собственностью государства, а фиксирует объективную общественную реальность, демократическую правовую действительность. Поэтому в обществе предъявляются высокие требования к формализации прав, а также к их знанию и навыкам выполнения соответствующих процессуальных действий по защите своих прав.
В-шестых, институт прав человека в Европе (на Западе в целом) возник как противостояние гражданина произволу государственной власти. Сегодня они продолжают выполнять функцию регулирования отношений личности с государством, и тем самым считается, что они предупреждают перерождение государственности в тоталитарную (всеохватную) власть. Права человека неразрывно связываются с демократической формой построения общественных отношений, демократической организацией гражданского общества, участием граждан в формировании органов государства, контролем за деятельностью его органов и должностных лиц. Права человека немыслимы без демократии и наоборот – демократия немыслима без прав человека.
В-седьмых, считается, что государство должно минимально присутствовать в жизни человека. В лице правоохранительных и судебных органов оно должно подключаться лишь при нарушении прав. Задача государственных служб при этом ограничивается фактом подтверждения наличия прав у того или иного лица, содействием в восстановлении нарушенных прав и возмещении причиненного ущерба. Практика таких отношений индивида с государством (особенно в сфере действия гражданских и политических прав) спровоцировала появление процесса отчуждения между ними и способствует его нарастанию.
В-восьмых, права человека в Европе впитали богатое наследие античности и протестантизма, они развивались в процессе борьбы и разделения светской и религиозной властей, использовались в качестве революционных лозунгов различными движениями, были предметом многочисленных идеологических дискуссий и политических акций, их становление в целом проходило в атмосфере социального плюрализма. Поэтому они приобрели на этом континенте и в таких условиях светский характер, содержательно отражают социальный плюрализм, активно развивают и поддерживают последний.
В-девятых, европейскими стандартами провозглашается принцип защиты прав человека всеми способами, не запрещенными законом, при этом сложилась практика понимания собственно защиты как деятельности судебных органов. Поэтому и правами человека именуют только те возможности личности, которые можно защитить преимущественно в судебном порядке. Решение суда о наличии или отсутствии того или иного права у лица оказывается самодостаточным в силу развитого правосознания и правовой культуры европейского общества, а также широкой (и традиционной) востребованности права (закона) как основного регулятора общественных отношений.
Таким образом, все эти (и другие) характеристики прав человека применительно к Европе позволяют сделать вывод о том, что права человека здесь воспринимаются и уважаются как абсолютная ценность западной цивилизации и важнейший показатель общественной жизни.
Далее необходимо остановиться на особенностях законодательного закрепления и действия прав человека в Российской Федерации. Принятые за последнее время в нашей стране нормативные документы о правах (Декларация прав и свобод человека и гражданина 1991 г., Конституция 1993 г., многие федеральные законы, проект Федеральной концепции обеспечения и защиты прав и свобод 2000 г.), а также решения Конституционного Суда РФ и других судов[11] свидетельствуют, что официальная позиция России в вопросе о правах человека по своим основополагающим показателям и принципиальным моментам отвечает европейским (и международным универсальным) стандартам. В целом она совместима с требованиями Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 г., не противоречит положениям многих других актов, принятых в рамках таких международных объединений, как ООН, МОТ, ВОЗ, ЮНЕСКО, Совета Европы, Европейского Союза, ОБСЕ, СНГ. Российская конституционная концепция утверждает модель социально-демократического понимания прав и направлена на сотрудничество с теми народами и странами, которые исповедуют гуманистические ценности.
Анализ содержания Конституции РФ свидетельствует, что права человека хорошо вписываются в формат стандартов Совета Европы – старейшей европейской организации, призывающей обратить внимание и оказать (в случае необходимости) общественную и государственную помощь каждой отдельной личности. Российская Конституция относит права к числу основ конституционного строя страны, утверждает гуманистическое правопонимание и характеризует человека, его права и свободы с точки зрения высших ценностей. Следуя естественно-правовому подходу, Конституция считает основные права неотчуждаемыми, принадлежащими каждому от рождения. При этом, предлагая перечень некоторых (основных) прав, она указывает, что есть и другие общепризнанные права и свободы. Конституционная концепция относит права человека и гражданина к непосредственно действующим, не зависимым от закрепления в других актах, придает им общерегулятивный характер, а также высшую юридическую силу и прямое действие на территории всей страны. В ней права характеризуются как критерий, по которому следует проверять правовое содержание принимаемых и действующих законов, правовой тип организации и деятельности органов государства и местного самоуправления, ею запрещается издавать законы, отменяющие или умаляющие права и свободы. Общепризнанные принципы и нормы международного права о правах человека провозглашаются составной частью российской правовой системы, при этом устанавливается приоритет международных договоров Российской Федерации перед внутренним законодательством. Тем самым предусматривается возможность для лиц, находящихся под юрисдикцией российских государственных органов, обращаться за защитой нарушенных прав в международные, в том числе и европейские структуры, если исчерпаны при этом внутренние средства. На уровне основополагающего закона страны устанавливается правило ограничения прав и свобод: это разрешается делать только путем издания федерального закона и только в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. Более жесткие рамки вводятся для ограничения прав в условиях чрезвычайного положения. Конституция требует осуществлять свои права таким образом, чтобы не нарушать при этом права и свободы других лиц. В тексте обращается внимание на взаимность прав, обязанностей и ответственности граждан и иных лиц. Основной закон выдвигает принцип недискриминации и гарантирует всем лицам равенство прав и свобод. За каждым закрепляется возможность защищать свои права, а также права других лиц всеми способами, не запрещенными законом. На государство возлагается обязанность признавать, соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина, гарантировать их государственную защиту, официально публиковать для всеобщего сведения правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, в противном случае они (акты) не могут применяться. Законодательное регулирование сферы прав человека и гражданина отнесено в Российской Федерации к федеральному уровню, а защита прав – к предмету совместного ведения федерации и ее субъектов.
Таким образом, видно, что официальная (законодательная) модель Российской Федерации в основном и главном следует и отвечает европейским подходам к правам человека.
Однако если обратиться к российской практике реализации норм о правах, проанализировать восприятие общественным сознанием идеи прав, оценить отношение к ним широких слоев населения, то, очевидно, придется внести коррективы в данное утверждение. Это связано и объясняется тем, что в России (как, впрочем, и в любом другом государстве Европы и мира) имеют место свои особенности в понимании смысла прав, их толковании, акцентах в содержании, приоритетах, направленности, значимости для конкретно-исторических условий, совместимости с культурными традициями и т. д.
Прежде всего, нужно констатировать (и это важно), что большинству россиян идеалы демократии вовсе не чужды. Более 50 % граждан считают, что люди имеют право бороться за свои права, даже если это идет вразрез с интересами государства, и еще 13 % убеждены, что права отдельного человека должны ставиться выше, чем интересы государства.[12] От государства люди ждут прежде всего уважения своей личности и учета своих интересов (чего на практике, к сожалению, пока не всегда наблюдается).
В общественной жизни России заявила о себе тенденция к индивидуализации личности. Две трети граждан, опрошенных Институтом социологии РАН в процессе исследований последних лет, указали, что личные интересы они ставят выше общественных.[13] С точки зрения идеи прав человека, которая требует внимания к отдельному индивиду, его жизни и интересам, а также в силу того, что российское государство и общество исторически традиционно пренебрежительно и потребительски относились к отдельной личности, это положительный момент для нашей страны. Однако по сравнению с недавним прошлым отказ от коллективистской идеологии, от ценностей солидарности, которые, как известно, поддерживают стабильность государства, рождают и скрепляют гражданское общество, нарастание индивидуализма не может не беспокоить.
Следует также заметить, что россияне нетипично широко понимают то, что есть права человека, они не видят принципиальной разницы между правами человека и иными субъективными правами, правами человека и правами личности.[14] Обращение к правам человека имеет место как к тому, что защищает индивида от произвола и несправедливости не только власти, но и частных лиц. Считается, что права призваны вообще защищать «простого человека» от более сильных, богатых и людей со связями, а не только от государственных чиновников или иных субъектов-носителей власти.
Поскольку права человека «вводились» в жизнь россиян решением государственных властей (в очередной раз «реформы сверху»), то следствием и продолжением такой политики стал очередной рост иждивенческих настроений. Права понимаются как блага, привилегии и дозволения, льготы и послабления, получение которых следует в обязательном порядке от государства. Поэтому нет ничего странного в том, что права человека ассоциируются в России главным образом с социальными обязательствами государства и отождествляются с социально-экономическими правами (что усиливается также неблагополучным материальным положением абсолютного большинства населения).
Благодаря «дарованным» правам, россияне привыкли ожидать помощи, заботы и защиты со стороны государства. Сложилась парадоксальная ситуация: среди населения бытует мнение, что реализация и защита прав человека – сфера действия и обязанность исключительно чиновников, а не самих граждан.
Не может не настораживать и факт безразличного отношения населения, игнорирования и даже апатии к политическим и ряду гражданских прав и свобод. Так, 57 % россиян не верят, что совместные действия в защиту общих интересов могут дать результаты и быть эффективными,[15] а 42 % – уверены, что с помощью акций протеста ни одной из проблем не решить.[16] Усугубляет положение воспитанная патернализмом готовность «идти на поклон» и «найти правду», которая ориентирует население страны не на использование официально установленных механизмов защиты прав (в том числе и методов гражданского публичного давления), а на неформальное заступничество, упование на действенность «позвоночного» права, помощь влиятельных лиц.









