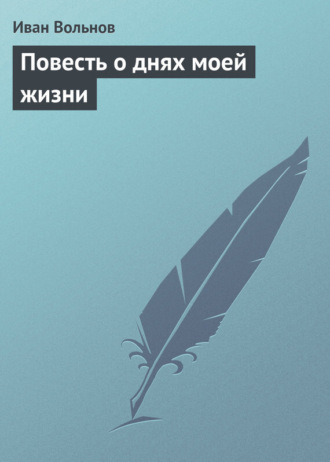 полная версия
полная версияПовесть о днях моей жизни
Помнить хорошо сестру я стал пяти-шести годов, когда ей было за тринадцать. Стояли знаменитые петровки 1892 года, деревня голодала и гибла от холеры. Каждое утро и вечер тянулись вереницы гробов, остро пахнувшие известью и карболовкой. На мысах, у реки, жгли одежду и утварь незнакомые люди с орлами на картузах. Неслись, не смолкая, рыдания осиротевших детей; люди выбились из сил, питаясь травою, луком и хлебом, смешанным с древесного корою, горьким, как полынь.
Утром однажды я лежал еще в постели. Слышу: мать плачет, упрекая кого-то или жалуясь. Отец сидит, насупив нос, на лавке и молчит: он с похмелья угрюм.
– Что я с ним буду делать, а? – часто повторяет мать.
Сначала я подумал: не обо мне ли речь? – но, вспомнив весь вчерашний день, тотчас же успокоился.
«Либо что случилось, либо мать ругается за пьянство, – решил я. – Толку все равно не будет».
Отец, заметив, что я не сплю, прикрикнул:
– Ты что там, барин, дрыхнешь до обеда, забыл про кнут? – Шаря около себя руками, он добавил: – Я тебя выучу!.. Дворяниться не будешь с этих пор!
Отца я боялся, как огня, и этот окрик отнял у меня всякую возможность двигаться. На счастье заступилась мать.
– Он тебе мешает? – сказала она, возясь с горшками. – И так разогнал всех, мучитель!
Сметая веником с шестка пыль, мать причитала:
– Скоро и меня в гроб вколотишь, руки бы твои отвалились поганые… И бога не боишься, змей!
Я заплакал. Вспомнилась вчерашняя сцена, сестра Мотя, которая теперь где-то пропадает, избитая.
«Может быть, она уж больше не придет никогда», – подумал я и стал плакать громче.
Накануне было вот что.
Запряг отец лошадь и, войдя в избу, сказал матери:
– Давай холсты, я поеду на станцию.
Сестра стирала рубахи, а мать возилась с шерстью.
– Не дам, – сказала она.
– Что ж, не жравши будешь? – спросил отец. – Я куплю муки на них.
Мать молчала.
Отец пошел в амбар, сбил топором замок с ящика и начал выбирать холсты, полотенца и сарафаны, складывая все в мешок и бросая на телегу.
– Мамка! – закричала сестра, посмотрев в окно. – Гляди-ка, он сундук разбил!
Обе с плачем выскочили на улицу и подбежали к амбару. Отец уже добирал последки. Ни просьбы, ни мольбы не помогли. Тогда мать вцепилась обеими руками в мешок и закричала:
– Не дам последнего, злодей!
Отец сказал:
– Брось.
Мать еще крепче вцепилась.
Отец молча ударил ее кулаком по лицу. Она мотнула головой по-лошадиному и опрокинулась на спину. Изо рта ее обильно заструилась кровь. Полежав чуть-чуть, она вскочила на колени и поймала отца за руку. Она умоляла пожалеть нас, детишек, и «доброго» не продавать. Протягивая губы, мать пыталась целовать его руку, но отец вырывал ее и снова ударял по голове и по губам… Мать падала навзничь, хваталась за лицо, плакала и опять лезла. Отцу надоело это: взяв ее за волосы и обмотав их вокруг руки, он приподнял от земли голову ее и бил по правому виску, уху и щеке толстым ореховым кнутовищем. Мать только стонала.
Я помню: отец бил часто лошадь так, когда та не могла везти тяжелый воз, – по уху и скулам, норовя попасть ближе к глазу. Как и в тех случаях, лицо его становилось багровым, глаза мутнели, он трясся.
В это время сестра моя вскочила на телегу, схватила мешок с добром и убежала в избу, бросив его там на печку и прикрыв дерюгой.
В продолжение всей этой сцены я стоял, как прикованный к месту, не в силах вымолвить слова. Потом какой-то ужас охватил меня: я вскрикнул и побежал вдоль деревни, сам не зная куда.
Очутившись на чужом дворе, я лег там в хворост, затаив дыхание. Руки и ноги тряслись, по спине ползли мурашки, а сердце то замирало, то колотилось. Страх был настолько велик, что я даже не плакал.
Вышла пожилая женщина, мать Мишки Немченка, отыскала меня в конуре.
– Ты чего тут забился? Али отец выдрал? Эх вы, озорники!
Ничего не сказал, не нашелся. Поспешно выскочив из хвороста, я с плачем побежал домой.
Мать лежала у телеги одна. Раза два она приподнялась на локте, силясь встать, но тотчас слабела и тыкалась головою в землю.
– Ваня, – увидела она меня, – помоги мне, батюшка, подняться! – Мать вытерла с губ кровь.
Я подскочил к ней, обхватил руками ее шею и, трясясь весь, как лист, затвердил:
– Мамочка, не надо!.. Мамочка, не надо!..
Что не надо, я не знал. Стоял перед ней на коленях и говорил как в бреду:
– Не надо!.. Не надо!..
– Подыми меня, – повторила мать и, освободившись из моих объятий, кое-как встала. Шатаясь, схватилась за задок телеги, поглядела туда.
– Где же добро? Куда его девали?
– Унесла Матрешка в избу, – сказал я.
– Матрешка унесла?
Мать подошла к амбару и опустилась на приваленный к стене камень. Упершись локтями в колени, склонила на руки голову, сплевывая по временам кровавую слюну.
Отец же, заметив, что мешок пропал, пошел в избу.
– Ты куда его прибрала, стерва? – обратился он к Моте.
– Я, тятя, не знаю, – ответила сестра, всхлипывая и предчувствуя близкую расправу.
– Врешь, холсты здесь!
Отец схватил девчонку за косу.
– Слышишь или нет?
Но с сестрой случилось странное: она вырвалась из его рук, вскочила на лежанку и, загораживая собою мешок, проговорила твердо:
– Уйди! Не получишь холстов! Пропивай свое, а нашего не трогай!..
Вся она тряслась, глаза горели, а рябое лицо дышало решимостью.
Это было неожиданно и дерзко. Отец в первую минуту даже растерялся. Потом, сурово сдвинув брови, он направился к сестре и схватил ее за подол платья. Но тут случилось невероятное: со всего размаха Мотя ударила его лапотной колодкой по голове. Отец схватился руками за ушибленное место, съежился и раскрыл рот, ожидая нового удара. Обеими руками сестра с еще большею силой опустила колодку на темя отца.
– Вот тебе!
Он вскрикнул, метнувшись в сторону, и зашатался. А Мотя стояла будто в столбняке каком: лицо побелело как полотно, глаза неестественно расширились. Только губы по-прежнему были сжаты и чуть-чуть дрожали.
Опомнившись, отец закричал на нее, матерно ругаясь, замахал руками, затопотал, но подойти боялся. На несчастье сестры с другой стороны печки стояла деревянная лопата, на которой сажают хлеб. Со злорадно заблестевшими глазами отец схватил эту лопату и, подскочив к лежанке, ткнул ею изо всей силы в грудь сестру. Та ахнула, свалившись снопом на пол.
– Ага, сволочь! – заржал он.
Через значительный промежуток времени соседи вырвали бесчувственную Мотю из рук отца. Все тело ее распухло и почернело, как земля; волосы местами были выдраны, образуя на голове плеши, местами спутались в куделю; на них запеклась кровь.
Отец, взяв холсты, поехал на станцию, сестру соседи увели к себе, а мать по-прежнему сидела у амбара. Подняв валявшийся платок, я подал его матери и сел у ног ее.
– Больно тебе, мама? – спросил я.
– Больно, сынок, – ответила она.
Ярко блестело солнце, накаливая сухую, потрескавшуюся серую землю. Пахло гарью, карболовкой, дорожной пылью. Большим вымершим домом стояла деревня, молчаливая, покорная, привычная ко всему.
IVЭту ночь мы не ночевали дома. Знали, что отец приедет пьяный, будет кричать и драться, поэтому, как только пригнали скотину, мать напоила ее, и мы ушли на Новую деревню – к тетке.
Дома не было хлеба, я не ел второй день, но пережитые волнения отбили всякую охоту, так что, когда нам предложили ужинать, мы отказались.
Стемнело. Тетка стала готовить постель на кутнике, мать о чем-то с нею разговаривала, а я дремал. Вдруг задребезжала с большака телега, издали послышалась пьяная песня.
– Кажется, ваш воин едет, – промолвила тетка, заглядывая в окно.
Мать побледнела и проговорила дрожащим голосом:
– Загаси, пожалуйста, огонь.
Мы остались в темноте. Я прижался к матери, обхватив руками ее шею, и заплакал.
– Бедная моя детка, – говорила мать, гладя меня по голове и целуя. – Не плачь!.. Он не найдет нас тут… Ложись в постельку…
Слезы текли у нее по щекам и горячими каплями падали на мою руку, но она сдерживала рыдания, утешая меня.
Колеса загремели под окнами. Можно было разобрать слова любимой песни отца, которую он пел всех чаще:
Собачка, верная служанка,Не лает у ворот:Заноет мое сердце,Заноет, загрустит…Язык его заплетался, телегу трясло, песня, обрываемая на полуслове, выходила несуразной, похожей на икоту.
– Нализалась, собачка! – со злобой бросила тетка, прикрывая окно. – Дуролом непутный!..
А мать все гладила меня по голове, лаская и называя нежными именами. Рука ее дрожала; целуя, она прижималась правым углом губ, потому что левый был рассечен кулаком.
– Усни, мой миленький, – шептала мать, – усни, мой сокол ясный!..
Всхлипывая, я целовал ее несчетно раз, прижимаясь головою к груди. Передо мною снова встала картина, как она лежит беспомощная на земле, а отец бьет ее кнутовищем по лицу… Я весь затрясся от рыданий, крепче обвил ее шею и с безумной болью в душе стал твердить:
– Мамочка!.. Мамочка!..
И мы долго сидели так, тесно прижавшись друг к другу.
Тетка давно уже спала, а нам все не хотелось расставаться. Потом как-то незаметно я уснул на коленях у матери. Чуть-чуть помню, как она перенесла меня на постель и поцеловала, перекрестив.
Ухватившись ручонками за плечи, я спросил:
– Ты тоже со мной ляжешь?
– Да, спи, Христос с тобой, – ответила мать.
И я снова задремал.
Во сне бегал с Мухой по какой-то балке, гоняясь за журавлем. Оступившись, упал вниз, закричал и проснулся. Хотел было заплакать – незнакомая хата, один, темнота, но услышал тихий разговор и притаился.
– Лежи, успеешь, – шептала тетка. – Петухи еще не пели, почто пойдешь ни свет, ни заря?
– Нет, надо идти, – узнал я голос матери, – там, чай, лошадь не распряжена: пить, есть хочет… Пойду… А ты утречком, убравшись, приведи Ванюшку.
– Мама, я с тобой пойду, – отозвался я, приподнимаясь на локте.
– Вот он – сверчок, не спит! – рассмеялась тетка.
– Зачем же, милый? – сказала мать. – Рассветет, тогда с тетей придешь.
Голос – неуверенный: идти одна, должно быть, мать боялась. Мигом я вскочил с постели, отыскал картуз, и мы вышли на улицу.
Было еще темно. Небо казалось чистым и бесконечно глубоким. Светлым бисером на нем рассыпались звезды. Тишину нарушали лишь наши шаги, мягко тонувшие в дорожной пыли, да ночной сторож, бивший в колотушку.
Минут через двадцать приблизились к дому. Навстречу выскочила Муха, радостно визжа и прыгая на грудь.
– Что, разбойница, соскучилась? – спросил я, наклоняясь к ней.
У забора стояла привязанная лошадь. Увидя нас, она заржала и стала бить копытом землю.
Тихонько открыв ворота, мы ввели ее во двор, распрягли, дали корму. Набросившись на свежую траву, лошадь захрустела, быстро передвигая челюстями.
Осмотрели телегу. На дне ее, завернутый в веретье, лежал мешок с мукою в пуд.
– Только всего и привез, пьяница! – грустно проговорила мать.
Пока она снимала и развязывала мешок, я присел на веретье и начал дремать. Куры завозились на насести. Я открыл глаза. Склонившись над мукою, мать торопливо захватывала полные горсти ее, суя себе в рот. Еще сквозь дрему я слышал ее слова: «Не затхлая ли – надо попробовать», – а когда проснулся, увидел, как она жадно жует, все спеша, все стараясь взять больше.
– Мама, что ты делаешь? – спросил я, смотря на нее в недоумении и страхе.
Мать сконфузилась.
– Ты, знать, задремал? – прошептала она, поспешно вытирая губы. – Пойдем в избу.
– Нет, я есть хочу.
Проснулся голод, в животе заныло и засосало.
– Ничего нету, сынок, – ответила мать. – Пойдем, поспи немножко, а утром я тебе калачик испеку.
Но голод – не тетка, и сдаться я уже не мог.
– Мама, а муку нельзя есть? Ты же ела, дай и мне.
Мать развязала мешок, и я поспешил запустить туда руки.
– Смотри, не рассыпай, – предупредила мать. – За нее деньги платили.
Без привычки есть муку было неудобно: она лезла в горло и нос, захватывая дыхание; образовавшееся во рту тесто прилипало к деснам, вязло в зубах.
– Ты не торопись, понемножку, вот так, – учила мать, беря муку щепотью и кладя себе в рот, – не жуй ее, а соси… Больше соси…
Запели вторые петухи.
– Пойдем в избу, – заторопилась она. – Отец скоро проснется.
Я покорно встал. Мать взяла меня на руки, и я тотчас же уснул, положив голову на плечо ее.
VКупленная мука оказалась гнилой, с песком. Хлеб совершенно не выходил: на лопате он был еще ничего, но стоило посадить в печку, и он расплывался безобразным блином.
Правда, год был голодный, хорошей муки нигде нельзя было достать, но такой, кажется, и не видали.
Когда ковригу вытаскивали из печки, верхняя корка вздувалась пузырем, под нею образовывалась измочь, и мякиш превращался в тяжелую, вязкую глину. В другое время такой хлеб собакам стыдно было бросить, а тогда – ели, радовались и хвалили.
Потом опять доели все. Последние десять фунтов муки мать смешала с двойным количеством лебеды, и нам хватило хлеба суток на трое. За день же до петровского разговенья, вечером, мы получили по последнему куску.
– Ну, детки, нынче ешьте, а завтра – зубы на полку: хлебушка больше нет, – сказала мать.
Мотя в это время ходила на поденную к помещику.
Мне дали два ломтя, а отец, мать и сестра получили по одному. Ложась спать, я один съел, а другой спрятал к себе под подушку – на завтра.
«Скоро у нас опять будет драка, – думал я, – отец станет хлеб добывать».
Закрывшись с головою дерюгой, я прикидывал на разные манеры, как бы помочь: попросить бы, что ли, у кого или украсть, а то еще что-нибудь сделать, чтобы отец с матерью завтра обедали, а драться обождали.
Незаметно мысль перешла на сегодняшнее.
«Жалеют меня: два ломтя дали… а сами по одному…»
Засунув руку под подушку, я нащупал хлеб.
«Как только встану, умоюсь – сейчас же и съем».
Вдруг приняло в голову:
– А ну-ка, кто-нибудь вытащит ночью – Мотя или мыши?
Вскочив с постели, я подошел к матери, собиравшейся улечься:
– Мама, дай мне, пожалуйста, замок с ключом.
– На что тебе, детка?
– Нужно, дай.
– Сейчас я поищу.
Покопавшись в углу, мать принесла замок. Я побежал в сени к своему ящику, в котором у меня хранились бабки, осколки чайной посуды, самодельные игрушки, лоскутки цветной бумаги, примерил замок и, тихонько прокравшись к постели, взял оттуда хлеб, чтобы спрятать его.
– Глупенький, его же никто не возьмет, зачем ты затворяешь?
Склонившись надо мною, стояла мать, смотря мне в лицо, и тихо плакала.
В душу прокрался мучительный стыд, но я сделал попытку оправдаться.
– Я боюсь, кабы его ночью кошка не съела, – сказал я, но, вспомнив, что кошку отец еще осенью убил, стал путаться.
– Чужая прибежит и слопает, когда я сплю, – неуверенно, чуть не с мольбою, говорил я.
Мать, должно быть, поняла меня.
– Затвори, затвори, – сказала она, – так надежнее.
На другой день, когда я проснулся, все уж были на работе и возвратились поздним вечером усталые, голодные. Мать я увидел далеко за деревней и побежал к ней навстречу. Засмеялся сначала от радости – скучно же целый день одному! – а потом прижался к ее платью и горько заплакал.
– Ты что, миленький, о чем? – спросила она. – Тебя кто-нибудь побил?
Безумно хотелось есть, но я постыдился сказать ей об этом и, всхлипывая, проговорил:
– Да, меня ребятишки обижают – не принимают играть.
– За что же они, голубчик? Ну, погоди: я им ужо накладу, озорникам!.. Не плачь, на вот гостинчик. Бабушка Полевая прислала.
Развернув тряпицу, мать подала мне кусочек запыленного хлеба.
– На вот, ешь.
С непередаваемым наслаждением съел я эту корочку и на душе сразу повеселело.
Я шел, уже посмеиваясь, а когда увидел Мишку Немченка, стал поддразнивать его:
– Михаль! Мне мама принесла гостинец, а у тебя нету.
– Ну-ка какой? – подскочил он ко мне.
– Не покажу, – заважничал я, – Бабушка Полевая прислала: хороший, хоро-о-оший!..
Мотя пришла всех позднее, когда я лежал уже в постели. Она молча сняла зипун, разула лапти, выбила пыль из них и развесила онучи по веревке.
– Матреша, – не утерпел я, – мать мне гостинец принесла.
– Какой? – равнодушно спросила она.
– Ого! Ты больно любопытна! А если не скажу?
– Не скажешь – не надо.
Она зачерпнула воды из кадки и стала умываться, потом долго, усердно молилась богу.
– Будет тебе, монашка, – сказал я, – в святые, что ли, метишь?
– В слепые!
– Ты нынче что-то сердитая, бил, видно, кто, или – так? – высунул я голову.
Мотя отвернулась.
На дворе стемнело. Лаяла где-то собака. Скрипели ворота. Прохор, сосед, кричал работнику, чтоб взял из сарая клещи. Под кроватью щелкала зубами Муха, выкусывая блох. Отец шаркал босыми ногами по полу, натыкаясь то на ведро, то на лохань.
– Ты нынче обедал? – спросила сестра, ложась.
– Нет, а ты?
– Я обедала.
– Счастливая какая, где?
– Мало ль где, – ответила она.
Пошарив рукою под изголовьем, Мотя проговорила, поднося что-то к моему лицу:
– Съешь-ка вот.
– Что это?
– А ты ешь, не расспрашивай, коли дают.
Она держала тот самый ломтик хлеба, что получила накануне. С одного угла он был обломан.
– Это – твой вчерашний? Как же…
– Фи-и, – засмеялась сестра, – тот я еще утром съела!..
– А этот?
– А этот мне девки дали… Целый ломтище!.. Ела-ела, некуда больше, я и принесла тебе.
– А не брешешь?
– Жри, сволочь, что пристал? – закричала с злобой, сестра, тряся меня за локоть…
– Сама ты сволочь, – сказал я и принялся за хлеб. Мотя отвернулась, кутаясь в дерюгу, но через минуту, приподняв голову, спросила:
– Засох небось?
– Хлеб-то? Ничего: есть можно.
Она ощупью собирала крошки и клала к себе в рот.
– Тебе дать немного? – спросил я.
– Сам-то ешь, я ведь обедала.
– Чего там – на кусочек! – и я отломил ей чуть-чуть.
Мотя отнекивалась, потом взяла хлеб, отщипывая помаленьку и сося, как леденец, а я, дожевав остаток, уткнулся в подушку и захрапел.
VIНа преображение Буланый наелся на гумне ржи из вороха, раздулся, как бочонок, и стонал, лежа в углу, на соломе, а через сутки издох.
Мать вопила в голос, когда с него Перфишка сдирал кожу, а отец молчал как истукан.
– Недогляд – это дело не важное, – бормотал Перфишка, обчищая ноги. – Глядите-ка! – и воткнул большой ржавый нож в живот Буланому.
– Что ты, живодер, надругаешься! – сказала мать со слезами. – Он кормил нас девять лет, а ты его ножом.
– Я пары выпускаю, – ответил мужичонка. – У него пары скопились ото ржи.
В животе Буланого заурчало, и со свистом и шипением начали выходить пары.
– Ишь, как валит! – восхищенно говорил Перфишка, обминая драные бока, – как из трубы! Рожь у него теперь в кутью распарилась.
Облупивши мерина, кожу бросили в одну сторону, а дохлятину – в другую. Я поглядел на желтые зубы Буланого, на его выпавшие глаза, отрезанные уши, распоротый живот и заплакал.
– Теперь его куда-нибудь подальше от деревни, – сказал Перфишка, – чтобы не воняло.
Отец взял у соседа лошадь и, привязав Буланого веревкою за шею, стащил за огороды в ров.
– Лежи тут, голубок, – сказал он, глядя на мерина, – Лежи… – Вздохнул, надвинул на глаза шапку, помялся и пошел домой. Обернувшись, спросил: – А ты что же не идешь?
Хотел еще что-то сказать, но только покашлял, отвернувшись.
Я крикнул ему вслед:
– Я буду караулить, чтоб не слопали собаки!
И я сидел до самого обеда.
Пришел Тимошка поглядеть.
– Издох ваш мерин!
– Да, издох.
– Теперь вас будут звать безлошадниками, нищетой несчастной.
– И вы нас не богаче, – сказал я.
– Богаче – не богаче, а у нас все-таки матка с жеребенком.
– Может, бог даст, и у вас матка издохнет, тогда и вы будете нищетой.
– Чтоб у тебя язык отсох, у паскуды! – сказал Тимошка, сплевывая. – Чур нас! чур нас! чур нас! Чтоб у тебя отец издох за эти слова! – добавил он.
Я тоже сплюнул три раза и ответил:
– А у тебя мать.
За ужином отец сказал:
– Без лошади не жизнь, а дрянь одна, – и продал наутро теленка, корову и овец.
За эти деньги он купил в Устрялове Карюшку, низенькую черную лошаденочку с тонкими ногами, тонкой шеей и белой звездочкой на лбу.
– Теперь, Иванец, у нас новая лошадь, – сказал он, отворяя во двор двери, – погляди-ка.
Целую неделю, каждое утро, я бегал в закуту кормить ее хлебом.
– Машка! Карюшка! – кричал я. – Папы хочешь?
Лошадь весело ржала и подходила ко мне, протягивая морду. Я гладил ее по бокам и, давая хлеб, говорил:
– Ешь, да только не издохни, чумовая!
Отец однажды услыхал мои слова и рассердился:
– Еще накаркаешь, чертенок! Не говори больше так! – и, как Тимошка, три раза сплюнул. – Господи Сусе-Христе, чур нас! чур нас! чур нас!
И я перекрестился на колоду и сказал:
– Господи Сусе-Христе, чур нас! чур нас! чур нас!
Про Карюшку люди говорили:
– Лошаденка – ничего… Мелковата будто, слаба, но цены стоит, поработает годок-два.
Но, приехав с поля, отец сказал раз матери:
– Пропали денежки: кобыла с норовом.
Лицо его было мрачно, и говорил он сквозь зубы.
Мать побледнела.
– Неужто с норовом?
– Остановилась на горе… упала… Отпрягать пришлось.
– Эх, старик, поторопился ты малость. Приглядеться бы надо получше!
– Что ты понимаешь? – ответил отец. – Пригляде-еть-ся! Когда? Рабочая пора-то или нет? Языком болтать любишь, баба!
Перевозив с грехом пополам овсяные снопы, отец поехал сеять озимь и меня с собою взял.
– Картошки будешь печь мне, – говорил он.
Я в поле ехал первый раз, и радости моей не было конца. Мигом собравшись, я уселся на телегу, когда лошадь еще не запрягли. Вышедший отец засмеялся.
– Рановато, парень, сел, – сказал он, – семян надо прежде насыпать.
Положив мешки с рожью и укутав их веретьем, сверху бросив соху с бороной, лукошко, хребтуг, в задок – сено и хлеб, отец сказал:
– Теперь лезь.
– А Муху возьмем? – спросил я. – Ишь как ластится, непутная.
– Муха пускай дома остается, – ответил отец.
В поле я собирал лошадиный навоз и пек в золе картошки, ездил верхом на водопой, приносил отцу уголек закурить, ловил кузнечиков и все время думал, что я теперь не маленький.
Встречая у колодца товарищей, я снимал, как большие, картуз и здоровался:
– Бог помочь! Много еще пашни-то?
Мне серьезно отвечали:
– Много…
Или:
– Добьем на днях: осминник навозный остался… жарища-то!..
Не умываясь по утрам, я хотел быть похожим на отца: запыленным, с грязными руками и шеей. Бегая по пашне, выбирал нарочно такое место, где бы в лапти мои набилось больше земли и, переобуваясь вечером, говорил отцу, выколачивая пыль о колесо:
– Эко землищи-то набилось – чисто смерть!
Отец говорил:
– Червя нынче много в пашне, дождей недостает: плохой, знать, урожай будет на лето.
Я поддакивал:
– Да, это плохо, если червь… С восхода нынче засинелось было, да ветер, дьявол, разогнал.
– Не ругай так ветер – грех, – говорил отец.
Ложась спать, я широко зевал, по-отцовски чесал спину и бока, заглядывал в кормушку – есть ли корм, и говорил:
– Не проспать бы завтра… Пашни – непочатый край… – И опять зевал, насильно раскрывая рот и кривя губы. – О-охо-хо-хо!.. Спину что-то ломит – знать, к дожжу.
Отец разминал ногами землю у телеги, бросал свиту, а в голову – хомут или мешок, и говорил:
– Ну, ложись, карапуз.
Трепля по волосам, смеялся:
– Вот и ты теперь мужик – на поле выехал.
Я ежился от удовольствия и отвечал:
– Не все же бегать за девчонками да щупать чужих кур – теперь я уж большой.
Отец смеялся пуще.
– Не совсем еще большой, который тебе год?
– Я, брат, не знаю – либо пятый, либо одиннадцатый.
– Мы сейчас сосчитаем, обожди, – говорил отец. – Ты родился под крещенье… раз, два, три… Оксютка Мирохина умерла, тебе три года было – это я очень хорошо помню: мы тогда колодец новый рыли… Пять, шесть… Семь лет будет зимой, – ого! Женить тебя скоро, помощник!
– Немного рано: не пойдет никто!
– Мы подождем годок.
Отец вертел цыгарку и курил, а я, закрывшись полушубком, думал, – какую девку взять замуж.
– Тять, – говорил я, – а Чикалевы не дадут, знать, Стешку за меня, а? Они, сволочи, – богатые.
– Можно другую, – отвечал отец улыбаясь. – Любатову Марфушку хочешь? Девка пышная!
– Что ты выдумал? Ее уж сватают большие парни!
– Ну, спи, – говорил отец, – а то умаялся я за день, надо отдохнуть.
Пашня наша подвигалась, но Карюшка с каждым днем худела. Бока ее осунулись, кожа присохла к ребрам, над глазами появились две большие ямы, а шея стала еще тоньше. Когда наступал обед и отец подводил лошадь к телеге, она, всунув голову в задок, где привязан был хребтуг с овсом, жадно хватала зерно и, набрав полный рот, замирала. Раздувались красные ноздри, шея и ноги тряслись, на водопой шла спотыкаясь.



