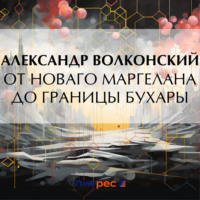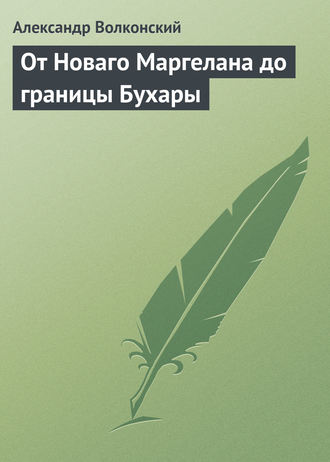 полная версия
полная версияОт Новаго Маргелана до границы Бухары
Мы обгоняем арбы; лошади, с утра не кормленные и с утра без отдыха, с трудом взбираются на подъемы оврагов; мальчуганы-сарты, сидящие верхом, безжалостно цукают и бьют лошадей, усиленно напирая босыми ногами на оглобли, чтобы дать арбе равновесие при подъеме. С своей стороны джигиты торопят возниц. Это постоянное понукание уставших лошадей и людей начинает надоедать, назойливо раздражает… А склоны гор все круче; крупные камни, скатившиеся с них на дорогу, все чаще заграждают путь арбам и наконец обоз останавливается: широкий ход передней арбы уперся одним концом оси в стену откоса, а другое колесо готово повиснуть над обрывом. Дальше идти невозможно, хотя до кордона Исфайриского поста остается всего 4 версты. Надо снимать вещи с арб и навьючивать их; но вьючные лошади ушли вперед, быть может отдыхают уже на посту… Опять крики, опять брань на непонятном языке, и опять один из спутников, который взял на себя неблагодарную роль начальника обоза, тщетно прилагает всевозможные усилия, чтобы водворить порядок среди непонимающих его арбакешей… Я еду вперед, чтобы вернуть свой маленький караван вьючков.
Темнеет. Горы, теряя очертания, сливаются в полумраке в однообразную, безжизненную громаду; резким, каким-то зловещим черным пятном выделяются редкия деревья на их тусклом сером фоне; только изломанная причудливым узором линия вершин вырисовывается еще отчетливо своими зубцами на не совсем стемневшем небе, и белая в сумраке лента реки окаймляет их подножье. Глаз не различает расстояния: утес скалы, казавшийся далеким, вдруг выростает вплотную передо мною; всадник, за которым я ехал следом в двух шагах, исчезает после какого-то поворота, точно поглощенный темнотой… Я еду один, пристально глядя сквозь темноту, куда мне направить лошадь. Все приобретает причудливые формы: вот близь дороги лежит человек, разметав руки, и другие столпились вокруг него; я нагибаюсь к ним с седла: это не люди, это куча придорожных камней. Сама дорога вдруг превращается в реку; осторожно подвигаешься вперед, ожидая, что с следующим шагом лошадь ступит в воду; едешь дальше – воды нет, но есть обрыв; да, это несомненно обрыв; вот тут, совсем близко, рядом со мной… проходит мгновенье, и вдруг понимаешь, что принимал за обрыв ничтожную канаву… Скоро, однако, глаз привыкает к темноте; у человека, и у лошади появляется какой-то инстинкт, и точно ощупью пробираешься в потемках, угадывая спуски в овраги или изгибы дороги в расширяющейся долине. Прошло около часу, а все еще нет ни Исфайрамского поста, ни другого человеческого жилища. Раз только донесся до меня из глубины долины собачий лай в ответ на мой оклик.
Вот где-то налево мерцает костер – должно быть это место ночевки; я хочу пробраться к нему, но меня встречает шум воды, река преграждает мне путь, и, ведя лошадь в поводу вдоль берега, я тщетно ищу моста: всюду крутой обрыв к ревущему потоку. Иногда костер на том берегу ярко вспыхивает и выделяет темные силуэты собравшихся перед ним людей. Но звать их не стоит: за ревом воды сам не услышишь своего голоса; да и не к чему звать, ибо моим спутникам незачем быть на том берегу. Я возвращаюсь на дорогу, чтобы ждать, не нагонит ли меня кто-нибудь из них; по мере удаления от берега с каждым шагом рев потока слабеет, переходит в глухой гул, и скоро вокруг воцаряется тишина, – та торжественная тишина, которая вместе с ощущением одиночества и своего ничтожества перед громадой мироздания охватывает человека, затерянного среди величия природы, раскинувшей над его головой темный свод ночного неба. Ни единого звука; только кузнечики, поющие свою стрекотливую песню, ту же, что они поют в наших родных черноземных степях, наполняют тонким звоном молчаливую ночь; звон их не нарушает покоя, а как бы сливается с ночной тишиной… И, прислушиваясь к этой тишине, утомленный бессонною ночью и долгим дневным путем, я задремал, облокотясь о холку уставшей лошади.
Прошло около получаса. Вдали послышался топот; две фигуры всадников в азиатских одеждах выплыли из мрака в нескольких шагах предо мной. «Где дорога на пост?» кричу я, но фигуры проезжают мимо безмолвно, без малейшего внимания к моему оклику. «Стой, где урус-хане, – урус солдат? где закет-хане?» – продолжаю я кричать, думая заслужить их внимание звуками сартовского языка. Но, должно быть, в моем голосе много злобного нетерпения: топот коней участился, и через минуту фигуры всадников потонули в темноте. И долго еще я ждал, покуда один из товарищей по путешествию не подъехал ко мне вместе с проводником, который скоро привел нас к весело светившемуся своими окнами домику Исфайрамского поста, или Аустана, как это место значится на карте. Здесь мы застали опередивших нас спутников уже сидящими вокруг стола, на котором кипел самовар и лежали внушительного размера хлебы, привезенные из Маргелана; остальной провизии, видимо, не суждено было нагнать нас в этот день, и, утолив, насколько было возможно, наш голод, мы расположились на полу и заснули как убитые.
II
Оставим наш отряд спокойно отдыхать под гостеприимным кровом Исфайрамского поста и скажем несколько слов о туркестанском таможенном округе, с реформой которого связана главная цель нашей экспедиции.
При учреждении таможенного надзора (в 1887 г.) распоряжения правительства были выполнены на месте трудами и энергией нынешнего начальника округа – Г. К. Кайзера, изъездившего для этой цели не одну тысячу верст среди степей и гор пограничной полосы. Вынесенное из столицы или городов центральной России представление о деятельности чиновника мало вяжется с характером службы на наших окраинах. Если вы встретитесь в Туркестане с чиновником, проведшим несколько лет в Средней Азии, – можете быть почти уверены, что в его лице имеете дело с путешественником, могущим вам рассказать много занимательного о странах, имена которых вам едва известны. Поручения, ради которых делаются подобные путешествия, полны жизненного, а не только канцелярского интереса и отличаются самым разнообразным характером.
Округ имеет назначением охранять в таможенном отношении ввоз товаров в пределы края из Индии и Афганистана чрез Бухару и из Китая чрез нашу восточную границу. С переходом таможенного дела из рук обще-административного управления в специальное ведение округа, доходы по сбору пошлин возросли почти в шесть раз; в настоящее время, при общем расходе приблизительно в 100 тысяч рублей с небольшим, пошлин с привозных товаров очищается на 660 т. р. В этом отношении не все, однако, районы округа находятся в одинаково благоприятных условиях. Из четырех отделов и двух участков, на которое подразделяется округ, серьезное фискальное значение имеет лишь самаркандский отдел: в нем сосредоточивается взимание пошлины с бомбейского чая и с других товаров, переходящих северную бухарскую границу на вьюках или пересекающих ее по линии закаспийской железной дороги, и его более чем полумиллионный доход составляет почти весь доход округа. На долю катта-курганского отдела[7] приходится всего 20 т. р.; такое же второстепенное значение в смысле доходности имеет отдел аму-дарьинский, расположенный на нижнем течении этой реки (между территориями Бухары и Хивы), он представляет преграду для провоза товаров из средне-азиатских ханств во внутреннюю Россию по направлению в Оренбургу и в Туркестан чрез Кизил-Кумские пески. Линия ферганского отдела и два участка пограничные Китаю имеют лишь «боевое» (как выражаются люди близкие таможенному делу) значение и далеко не всегда покрывают расходы, вызываемые их содержанием[8].
Главную часть доходов округа доставляет очищение пошив с товаров, идущих из средне-азиатских ханств. В этой категории товаров единственную крупную статью представляет чай, идущий из Индии в количестве почти 40 т. пудов в год (на сумму около 1½ м. р.); главным образом ввозится любимый местным населением зеленый чай (кок-чай). Он дает свыше полумиллиона пошлинного сбора[9]. Рядом с этим доходом сбор с остальных товаров играет самую незначительную роль. Так ввоз красильных веществ (индиго) дал в 1892 г. до 22 000 р.; драгоценных камней в том же году привезено на 2000 рубл. и сбор с них равнялся 800 р. Можно еще упомянуть о ввозе индийских бумажных тканей, в особенности белой и цветной кисеи, очень распространенной и в Бухаре, и среди мусульманского населения нашей территории, так как эта кисея идет на чалмы, неизбежный почти предмет туземного одеяния.
Важнейшие предметы ввоза через китайскую границу, расположенные по степени их ценности, представляются в след. виде: хлопчато-бумажные изделия (на сумму около 714 000 р.), шерсть (около 62½ т.), шолк сырец (38 т.), шерстяные ковры (44½ т.), и ткани (23½ т.) звериные шкуры (26½ т.), мягкая рухлядь (20½ т. р.) и чай (7 т.). В общей сложности получается почтенная цифра в 1 045 556 р.; но так как ценность чая входит в это число на сумму всего только 7111 руб., то пошлинный доход с этих товаров крайне невелик и составляет самую ничтожную часть всех доходов округа[10].
Собственно-бухарские произведения избавлены от пошлинного обложения.
В каждом отделе надзор составляется из управляющего, его помощников и надзирателей отдельных переходных пунктов. Эти пункты разбросаны по пограничной линии, в две тысячи верст длиной, на далекое друг от друга расстояние, – так что иногда приходится по одному кордону на пограничный уезд, – и представляют из себя простые сакли или же небольшие дома, в роде того, в котором мы расположились нашим первым ночлегом на Исфайраме. В таком доме помещается надзиратель и отводится комната для объездчика из отставных унтер-офицеров. Другие строения предназначаются под службы и для джигитов, т.-е. стражников таможенной охраны. Пункты располагаются на главных путях, в них ведется отчетность проходящим товарам, и отсюда джигиты отправляются в разъезды за десятки верст кругом, по пустынным равнинам и по горным ущельем. Они и особенно объездчики, которым обещана четвертая часть стоимости конфискуемых товаров, с большим рвением разыскивают следы контрабандистов, гоняются за ними целыми часами по раздолью степей, карабкаются на кручи по известным только им тропинкам, переправляются вплавь чрез горные потоки.
«Вот здесь я намедни тонул, – рассказывал мне один словоохотливый объездчик, отставной фельдфебель, с которым мы шли вдоль Исфайрама. – Послали меня поглядеть, что это за киргизы стали с кибитками там в долинке; хотел доехать покороче, через реку, меня течением и понесло вместе с лошадью; сажен 30 тащило, – совсем помирать собрался, да как-то выбрался на берег, смотрю – и лошадь тоже вылезает… Только напрасно искупался: ничего товаров у этих киргизов не было с собой, так пришли – скотину кормить»…
Джигиты устроивають засады, проводят ночи в снежных сугробах на горных перевалах, кутаясь в свои зипуны, а к полудню неожиданно появляются в равнине, в кишлаке, куда по их сведениям должен прибыл на базар караван с незаконно провезенными товарами, и нередко вступают в ожесточенную рукопашную схватку с контрабандистами.
Эта тяжелая служба таможенного джигита как нельзя более могла бы способствовать выработке боевых качеств в их среде и подготовке из их числа, на случай надобности, лихих разведчиков и проводников. К сожалению, соображения экономического характера и отдаленность пунктов, вероятно, надолго отложат возможность создать в этой прекрасной школе пограничное войско, подобное пограничной страже на нашей западной окраине. Джигит получает всего 15 р. в месяц и обязан на эти деньги содержать себя и свою лошадь, должен иметь зимний и летний бешмет; от казны он получает шашку и револьвер системы Галана. При таком скудном содержании весьма трудно найти запасных нижних чинов, желающих поступить в джигиты, почему эти должности замещаются по большей части из местных же сартов, во многих отношениях представляющих не совсем подходящий для такой службы элемент. По своим понятиям и интересам они, конечно, ближе в туземному населению, чем в интересам русской власти, шторой служат. Имея родственников среди жителей соседних кишлаков, имея личные с ними счеты и личные отношения к обитательницам кишлака (последнее совсем недоступно джигитам-немусульманам), они естественно имеют большее побуждение к столь соблазнительным в таможенном деле злоупотреблениям в ту или иную сторону. Разсказывают, будто бывали случаи, что контрабандисты поступали в джигиты с целью, изучив основательно в течение года приемы таможенного охранения, тем с большей выгодой заняться впоследствии своим обычным ремеслом. При таких условиях, несмотря на все усилия начальства, несмотря на введенные в округе приемы воинского чинопочитания (в роде отдания чести, рапортов и т. п.), дисциплина должна получиться довольно относительная, встречая главное препятствие в дикости понятий той среды, к которой ее хотят привить.
Я потому так долго останавливаюсь на положении джигитов, что вопрос о привлечении на их места (при помощи увеличения жалованья) отставных нижних чинов является весьма важным в виду предстоящего перенесения таможенной черты на южную бухарскую границу. В другой раз, при описании нашего дальнейшего пути, мы в подробности ознакомимся с характером стран по р. Пянджу и по среднему течению Аму-Дарьи и увидим, при каких тяжелых условиях, в какой полудикой обстановке придется всем чинам нести службу на будущей таможенной линии. Что же касается джигитов, то им в борьбе с контрабандным провозом товаров из Афганистана, вероятно, нередко придется вступать в стычки с более многочисленным противником, так как афганцы, переправляя через Аму-Дарью свои товары в больших поместительных лодках (каюках), имеют возможность высадиться в любом месте бухарского берега в числе 15–20 человек из каждой лодки[11]. Если принять во внимание, что афганцы эти могут быть вооружены прекрасным огнестрельным оружием английского изготовления и что, с другой стороны, по нашим таможенным правилам джигиту разрешается прибегать к оружию только в ответ на вооруженное же сопротивление, то станет ясно, что нашим джигитам потребуется недюжинная смелость и сильное чувство дисциплины, чтобы всегда выйти с честью из подобных стычек.
В Азии все имеет свой масштаб, вовсе не подходящий в нашему европейскому: крупнейшие ошибки внутренней политики могут остаться совершенно незамеченными местным населением, но неудача хотя бы горсти русских солдат оставляет глубокий след в воображении азиата, вселяя наивное сомнение в могуществе всего государства. Никто не поручится в том, что если несколько человек джигитов разбегутся при встрече с многочисленной ватагой контрабандистов, среди афганцев не зародится слух о бегстве настоящих русских, солдат, а не сартов, переодетых в бешмет джигита с зелеными погонами. Чем дальше от места происшествия будет, разноситься молва, тем более грандиозные размеры примет событие: в Бабуле уже заговорят о поражении тысячного отряда русских войск, а из Индии на встречу этой молве услужливый английский телеграф не замедлить принести известия, подтверждающие её справедливость.
Не легка также будет служба чиновников на новой линии. Заброшенный судьбой в какой-нибудь отдаленный город восточных и южных бекств ханства в роде Рохара, Бала-и-Хума или Куляба, надзиратель таможенного поста не найдет там, кроме нескольких своих подчиненных, ни одного человека, с которым мог бы поговорить на родном языке. Вернее всего, что он почти совершенно будет лишен возможности говорить, так как трудно предполагать в каждом чиновнике знатока местного наречия. Сношения с родными, оставленными на далекой отчизне, также не могут быть особенно оживленны: известия из Европейской России он будет получать не ранее, как чрез месяц. Даже из Туркестанского края письма, предполагая устройство правильной их доставки, будут идти до него, при самых благоприятных обстоятельствах, недели две, так как названные города удалены от столицы Бухары на 10–14 дней верхового пути. Такой чиновник, лишенный общества не только образованных, но даже просто грамотных людей, лишенный возможности окружить себя обстановкой, напоминающей хотя бы самый скромный европейский комфорт, будет в праве без особенного преувеличения сравнивать свою службу с ссылкой. Нельзя не выразить надежды, что на эту сторону дела будет обращено должное внимание и что вновь создаваемым должностям будут присвоены некоторые преимущества, не только в форме увеличенного содержания[12], но и в виде некоторых других отступлений от общих правил о прохождении службы. Так, например, обычный 28-ми-дневный отпуск для надзирателя поста в городе Кала-и-Хуме на деле свелся бы к нулю, так как это время оказалось бы достаточным лишь на то, чтобы добраться до русской границы, окинуть грустным оком отечественную землю и вернуться обратно на место своего служения. Включение в штат служащих на линии должности врача является также условием первостепенной важности для всех чинов; вместе с тем присутствие медицинской помощи может, благодаря уважению, которым пользуется врачебное искусство на востоке, оказать большую услугу русскому делу, давая нам новый шанс привлечь в себе расположение туземцев. А шансы эти в данном случае, т.-е. в таможенном деле, очень невелики, и в этом одно из главных затруднений, с которыми придется считаться новой линии.
Не подлежит, кажется, сомнению, что отношение всех слоев туземного населения к проектируемой мере будет в равной степени враждебно, так как каждый из них будет ею затронут в своих самых существенных интересах. Мне думается, что нельзя найти более полного и в то же время более благодетельного господства в чужом государстве, чем наше в бухарском ханстве; но как бы высок ни был авторитет императорского политического агентства в Бухаре, как бы строги ни были повеления, данные эмиром своей администрации об оказании всякой поддержки нашим таможенным чинам, результат этих повелений может коснуться только внешней, оффициальной стороны дела. Беки будут устроивать торжественные встречи, выставлять почетные караулы и готовить достарханы (угощенье); отвешивая кулдук, будут каждый разговор начинать и заканчивать неизменным уверением, что они наши слуги и что, исполняя повеление эмира, сделают все от них зависящее, чтоб угодить нашим интересам. Но суть дела от этого мало выиграет. Бек не может предупредить ожесточения народа против какого-нибудь джигита, вызванное таможенными стеснениями, ибо в данном случае неудовольствие населения будет относиться к числу тех, которые вызываются нарушением существенных, жизненных его интересов; подобное неудовольствие можно предупредить, уничтожив причины, его обусловливающие, но запретить проявление его при наличности этих причин – задача, выходящая за пределы могущества какой бы то ни было государственной власти. Беки и другие местные чины будут видеть в русских чиновниках своих личных врагов; ибо чем иным, как не врагом, может быть в их глазах лишний свидетель их противозаконных поборов и притеснений простого народа, могущий без всякого опасения за себя вступиться за обижаемых перед эмиром чрез посредство русского агентства в Бухаре? Муллы – единственный принципиально-враждебный нам класс бухарского народа – будут весьма рады воспользоваться неудовольствием, вызванным той или другой мерой русского чиновника. С своей стороны простонародье будет относиться враждебно к таможенному делу вследствие значительного повышения цен на предметы первой необходимости. Благосостояние бухарского населения стоит на таком низком уровне, потребности огромного его большинства столь незначительны, что пошлинному обложению могут подлежать почти только подобные предметы. Независимо от этого, все формальности нашей таможенной системы по досмотру, очистке пошлиной, выпуску товаров и пр. вовсе не отвечают привычкам туземцев, ни степени их развития. В средне-азиатских ханствах существует совершенно своеобразный способ взимания пошлины, установленной кораном и называемой «закет»: она оплачивается не на границе, а на месте распродажи товара и ограничивается 2½% его стоимости; под опасением ответственности на том свете, бухарец аккуратно уплачивает эту незначительную часть, но можно представить себе его неудовольствие при взыскании наших, чуть ли не стопроцентных пошлин. Европейская таможенная система, не измененная применительно к туземным обычаям, была бы обременительна для населения уже по тем многочисленным, чисто внешним стеснениям, с которыми она сопряжена и к которым даже европейская публика не приучила себя относиться хладнокровно; было бы странно ожидать более благосклонного отношения к ним со стороны населения, среди которого местами еще процветает меновая торговля.
Таковы в общих чертах те немаловажные затруднения, которые встретят деятельность таможенных учреждений на новой линии. Но сама мера имеет настолько важное, не исчерпывающееся интересами одного ведомства, значение, что, вероятно, правительство сумеет изыскать способы так или иначе побороть эти затруднения. Впоследствии, когда мы познакомимся с торговлей Бухары и с её торговыми путями, мы будем иметь возможность дольше остановиться на различных подробностях проектируемой меры. Что касается собственно финансовой стороны вопроса, то она почти всецело зависит от количества привоза товаров, потребляемых в самом ханстве, так как товары, проходящие бухарскую территорию транзитом (кроме идущих в Хиву), и теперь уже подлежат таможенному обложению. Каких-либо определенных данных о размерах этого привоза не существует. Экспедиции не удалось их добыть, и вопрос может выясниться только по занятии берега Аму-Дарьи нашими постами, когда будут вестись точные статистические сведения, которых бухарские сборщики пошлин не имеют. Пока приходится довольствоваться оффициальными сведениями, полученными в политическом агентстве от бухарских властей; сведения эти крайне неопределенны[13] и построенные на них выводы невольно должны носить на себе характер гадательных предположений. Полагают, что новая таможенная линия могла бы дать казне лишний миллион; часть его, однако, имеется в виду оставить, если верить слухам, в распоряжение эмира для ирригационных работ и иных общеполезных предприятий в ханстве.
Первую по доходности статью обложения займет, конечно, чай, потребляемый каждым бухарцем, даже бедняком, в значительном количестве. Всякий, путешествовавший по Бухаре, испытал на себе, какое благодетельное влияние имеет этот напиток в стране, где, за исключением гористых местностей, нет проточной воды и где, за неимением чая, пришлось бы довольствоваться мутной арычной водой, нескольких глотков которой подчас достаточно, чтобы получить злейшую лихорадку. Мне рассказывали, будто эмир, во время своего пребывания в Петербурге, обратил внимание нашего правительства на такое важное значение чая в его стране и выразил желание, чтобы ценность чая не была чрезмерно повышаема пошлиной, так как это могло бы невыгодно отразиться на здоровье вверенного его попечениям народа. Если, кроме чая, мы назовем еще индиго, индийские материи (главным образом кисею для чалм) и разные наркотические вещества, в роде опиума и анаши, то мы перечислим все главнейшие статьи ввоза чрез афганскую границу, так как остальные несложные потребности бухарского народа удовлетворятся либо местными произведениями, либо товарами, приходящими по закаспийской жел. дор., большей частью из России[14].
Будущее покажет, насколько справедливы надежды на доходность новой таможенной линии, а пока вернемся на старую линию, на Исфайрамский переходный пункт, где мои спутники уже проснулись, и где уже началась та шумная и веселая суета, которой неизменно сопровождалось утреннее выступление нашего отряда.
III
Часа два длились сборы; люди еще не приноровились быстро вьючить. В 9 часов мы выступили.
Было чудное, радостное утро. Так же, как вчера, нас сопровождал неумолкающий шум Исфайрама; картины были те же, только скалы росли все выше, и скоро мы увидели впереди первые снежные вершины. Дорога была в отличном состоянии, карнизы нигде не были менее аршина шириной, и мы беспрепятственно подвигались вперед.
В нашем отряде было до 50 лошадей разнообразных местных пород, купленных большей частью в Новом-Маргелане.
В Туркестане что ни местность, то свой сорт лошадей; чуть ли не каждый кишлак славится своей породой. Я близко пригляделся, за время путешествия, к сотням лошадей, наслушался много разговоров на эту тему, и вынесенное мною представление о туземных лошадях, к сожалению, мало соответствовало тому понятию, которое я имел о них до приезда в край.
Из многочисленных так называемых народ (бухарских, самаркандских, башкирских, текинских, киргизских и проч., и проч.) название породы по справедливости может быть прилагаемо только к лошадям ахал-текинского оазиса и к карабаирам (в долине Зеравшана), так как только эти две породы передают поколениям ясно выраженные особенности склада и свои типичные качества. Пожалуй, еще разновидности киргизских степных и горных лошадей можно объединить в одном понятии киргизской породы, так как вы всегда легко отличите низкорослого, приземистого, крайне уродливого и необычайно крепкого киргиза среди сотни других лошадей. Племена текинцев, до последнего времени сохранившие свою независимость, дольше других жили жизнью средне-азиатских хищников, и мне думается, что в этом главная причина устойчивости породы лошадей в их оазисе: постоянные аламаны (набеги) на персов и других соседей заставляли текинца дорожить конем, дорожить качествами своего боевого товарища, быстрота ног которого могла ему доставить лишнего пленника и спасала от погони врагов. Этого побуждения было достаточно, чтобы заставить текинцев выработать приемы соответствующего подбора производителей и правильного воспитания молодняка. Те же причины существовали до умиротворения края с приходом русских и в остальных местностях Средней Азии. С другой стороны, эмиры, ханы и равные полунезависимые беки и «ша» видели в богатом составе конюшни один из главных предметов придворной роскоши; такие конюшни, доходившие до нескольких тысяч голов, естественно подымали ценность хороших лошадей и тем побуждали население в ведению правильного коневодства. Туркестанцы говорят, что вырождение пород идет настолько быстро, что его можно уследить в десятилетний период. Действительно, вполне хорошие лошади становятся так редки, что они известны наперечет не только в том или другом городе, но и во всем крае, и счастливый обладатель такой лошади очень неохотно соглашается продать ее даже за высокую цену, раз в десять превышающую среднюю стоимость порядочного коня.