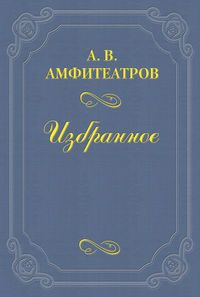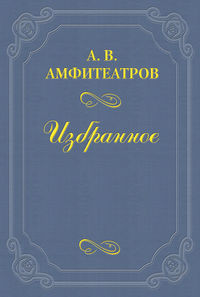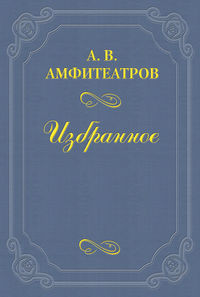полная версия
полная версияКняжна
– Правду? – засмеялся Антип. – А довольно у тебя совести, чтобы принять мою правду?
– Как совести не быть, – чай, крещеная.
– А коли совесть есть, что же ты, совестливая, сыну в ответ на вольные слова, о кормах кудахчешь, пашпортами пугаешь, безденежьем застращиваешь? Известно: на воле жить – не жирну ходить. Кто кормы больше совести почитает, тому не бечь, а в курятнике на лукошке сидеть, индюшкою яйца парить.
– Уж и больше совести! – смутилась Матрена.
– Что воля, что совесть, – едино оно. Воли нет – совести нет. Воля – цветок, а совесть – ягодка. В вольном человеке она вызревает, а рабу – зачем совесть? Эх тетка! Даром, что соколеною смотришь, – индюшка ты. И как это, и откуда ты такого орла-сына высидела?
Проводив Зину и Матрену, Конста и Антип долго сидели вдвоем, молча. У Консты голова шла кругом: так и тянуло вдаль. Антип, кряхтя, приподнялся, взглянув на Консту раз, другой… рассмеялся дробным и хриплым старческим смехом и заковылял к своей бане…
– Чего ты? – крикнул ему вслед озадаченный Конста, но старик не отвечал и, продолжая смеяться, исчез за поворотом аллеи.
Назавтра, когда Конста зашел в баню, дед по обыкновению сидел на крыльце. На лице у старика заиграл вчерашний смех. Консте почему-то эта улыбка не понравилась, он покраснел.
– Черт его знает! – злился он про себя, выбирая из кучи хлама крепкий заступ, – ишь, строит из себя полоумного! смеется, как кикимора! Или и впрямь старик выживает из ума, и на него порою находит одурь?
Он выбрал вещь, какую хотел, и повернулся уйти.
– Константин! – окликнул его Антип.
– Я, дедушка.
– Что же, парень? – серьезно заговорил старик, уже без улыбки, – только и будет твоей удали, что на тары-бары, бабьи растобары, или в самом деле побежишь?
– Побегу, дедушка.
Конста молодецки тряхнул головою.
– Беги, парень, беги, – Антип одобрительно закивал головою, – ты малый золотой; я, брат, до дурней неохоч, а тебя полюбил, человека в тебе вижу, добра тебе желаю. Что киснуть в этом погребе? Лес да болото, да тиранство – и люди-то все стали, как зверюги. В сраме и подлости рабской задохлись. Только и радости, что издеваться друг над другом. Сильный слабого пяткою давит. Слабый сильному пятку лижет, а сам змеей извивается, норовит укусить. Твари! Гнуснецы! А там, брат, степнина… море… орлы в поднебесье… ветер-то по степи жжж… жжж!.. Народ вольный, ласковый, удалой. Ни господ, ни рабов. Все равные, всяк сам себе владыка. Таким, как ты, там рады. Были бы голова да руки, – и золото в карманах забрякает…
– Побегу, дедушка! – с увлечением прервал его Конста.
Антип пожевал губами и устремил на молодого человека испытующий взгляд:
– С барышней-то давно слюбился? – сказал он. Конста вспыхнул и растерялся.
– Бог с тобою, дедушка! откуда ты взял такое?..
– О?! – не без удивления отозвался Антип, продолжая держать его под своим проницательным взглядом. – А ведь я, грешным делом, глядючи на ваши веселые шутки, думал, что вы в любви состоите…
– Как можно, дедушка? что ты?
– А отчего же нельзя, дурашка?
Старик ждал, что ответит Конста. Но Конста молчал и смотрел на него широко открытыми глазами, как человек, пораженный тем, что невзначай наткнулся на решение трудной-трудной задачи, до тех пор для него совсем темной.
Слова Антипа гвоздем засели в голове Консты. И когда он, впервые после этого разговора, встретил Зину, она показалась ему совсем новою, невиданною. Раньше он чувствовал себя настолько удаленным от Зины, что ему и в голову не приходило рассматривать ее как женщину. Но лукавый вопрос Антипа открыл ему глаза, как открылись они у Адама и Евы, когда, по совету змия, они отведали рокового яблока. Княжна Зинаида Радунская отошла вдаль, затуманилась, потускнела, а далеко впереди ее явилась в воображении Консты и всю ее заслонила просто Зина – красивая молодая девушка, – и стала она люба Консте, и отуманила его голову страстным порывом – до неизбежного выбора: или – и она пусть любит, или – пропадай голова, хоть на свете не жить!
Все это было так, пока Конста оставался наедине с самим собою. Но, чуть зарождалась в нем решимость открыть Зине свою страсть, княжна Радунская снова выплывала из туманной дали, заслоняла Зину, и малый падал духом:
– Скажешь ей, – а она насмеется или рассердится, надругается, нажалуется, велит прогнать вон со двора, – думал он.
За неделю таких колебаний Конста совсем истомился. Зину он стал избегать, потому что почти не владел собою в ее присутствии, злился, грубил матери, так что та изрекла приговор:
– Слава Богу, пожаловал милостью! До сих пор одна бешеная была на руках, а теперь – вся честная парочка…
Об Антипе Конста не мог вспомнить без бешенства.
– Словно дьявола в меня посадил, – колдун он, что ли? – волновался он в бессонные весенние ночи, ворочаясь на жесткой постели.
Однажды он нашел Зину одну в глухой глубине сада. Лежа на скамье под цветущею яблонью, она рыдала на голос, рыдала так, что все ее грузное тело колыхалось.
– Что с вами, барышня? Господи спаси! кто вас изобидел? – торопливо заговорил Конста, подходя к Зине.
Зина подняла заплаканное лицо.
– А то со мною, – с гневным страданием сказала она, – что мочи моей больше нету! Если я еще здесь останусь, либо я Волкояр сожгу, либо сама удавлюсь вот на этой самой яблоне, как Матвей-доезжачий. Все мне здесь постыло. Провалиться бы и дому, и селу! Ох, зачем только мамаша родила меня девчонкой? Была бы я мальчиком, – уж не заперли бы меня в четырех стенах. А кабы и заперли, сумела бы я найти свою волю. А девушка сама что может? Куда я пойду? что знаю? Вот и терпи! Кто хочет, тот над тобой и старший. Муфтелю кланяйся, Липке кланяйся, да еще благодари, что пока не заставляют ручек у нее целовать! Всякий надо мной измывается, и никто мне не поможет… И пожаловаться-то некому… У! проклятая, подлая жизнь!
Порывисто бросая эти слова, она в клочья изодрала свой носовой платок и раскидала лоскутья по дорожке. Слезы ее высохли. Гневный румянец шел к ней.
– Эка ведь красивая! – думал Конста.
– Значит, на новые места, барышня? – заговорил он шутливо, но голос у него сорвался.
Зина сердито перебила его:
– Убирайся ты со своими новыми местами! Мне не до шуток, я тебе по-настоящему говорю, что мне пришло – хоть в петлю полезай!
– Зачем в петлю? Петля – последнее дело. В петлю всегда поспеть можно. А надо бы придумать что-нибудь поскладнее. Коли вы всерьез, так и мы всерьез. Попробуем вместе умом раскинуть.
Зина опять прервала Консту:
– Если бы какой-нибудь человек вывел меня из этой каторги, так я бы ему всю жизнь отдала, в кабалу бы к нему пошла.
– Из кабалы-то опять в кабалу?
– Да уж хуже теперешнего не будет!
Конста в раздумье взялся за ствол яблони.
– А если такой человек найдется, да… не под пару вам, низкого рода? – спросил он и сел на конец скамьи.
Зина, не глядя на него, досадливо махнула рукой.
– Говорю тебе, петля мне, петля!.. Не все ли равно удавленнику, кто его снимет с дерева?
– И любить вы стали бы такого человека? – тихо сказал Конста.
– И любить! – точно отрубила Зина, зло и решительно.
Конста побледнел и грубо придвинулся к ней по скамье.
– Коли так, поцелуй меня, Зинушка! – зашептал он, крепко схватив в объятия сильный стан Зины, – я как раз по тебе человек. Я тебя не выдам. И от лихого батьки вызволю, и на новые места… Да что на новые места? Хоть во все заграницы проведу. А уж любить-то… любить – как буду.
XДавно замолкли и соловей, и кукушка. Отцвела липа. Хоры кузнечиков денно и нощно трещали в саду. Трава на скошенных полянах выгорела от июльского зноя; кое-где на деревьях проглянул желтый лист. Доспел орех. Лето пышно догорало, осень стояла настороже, чтобы вместе с августом ворваться в суровую природу унженских лесов. Матрена не раз уже озабоченно приглядывалась к желтым листьям и сердито качала головой, когда кузнечики кричали чересчур резко. Она сильно изменилась в последние месяцы, даже румянец на все еще красивом сорокалетнем лице ее будто выцвел. Извел Матрену страх – за себя, за Зину, за Консту. Она давно знала о любви молодых людей. Не прошло недели после того свидания под яблонью, как она застала княжну в объятиях Консты. Это было для Матрены совсем неожиданным подарком. Она чуть не умерла на месте от испуга: угрожающей образ князя так и встал пред ее глазами…
– Живою в землю закопает! – холодный пот выступил на лбу… колени подкосились…
Оправившись, она прыгнула к сыну, как разъяренная тигрица, и вцепилась властными материнскими руками в его волосы. Зина бросилась было удержать Матрену, но и сама получила от рассвирепевшей няньки несколько хороших тумаков. Сорвав первый гнев, Матрена села на землю и заревела в три ручья.
– Дьяволы вы эдакие! Что же вы со мною делаете? Коли вы Бога забыли, так хоть о князе помнили бы… Ведь мы теперь, все втроем, – почитай, что уж и не жильцы на белом свете: съест он и меня, и Зинушку, живьем съест! А тебе, Константин, и казни такой не придумать, как он тебя расказнит.
Пока она причитала, Конста с лукаво-унылым видом подбирал клочья своих выдранных волос, чем, в конце концов, рассмешил, по обыкновению, и мать, и оробевшую было Зину. Узнав о намерении Консты и Зины куда-то сбежать из Волкояра, Матрена перепугалась и растерялась пуще прежнего.
– Да что вы! – замахала она руками, – вовсе обезумели? Ты-то хороша, – обратилась она к Зине, – с колокольню выросла, а ума не вынесла; слушаешь всякие враки… Куда вы пойдете? Ведь он смолоду это врет все, антипкиными снами бредит.
– Нет, не врет, – вспыхнув, резко сказала Зина. – Я его за то и полюбила, что он обещал вывести меня отсюда… Ведь выведешь, Конста?
– Сказал: выведу, – стало быть, так; мое слово крепко. Не оправдаю слова, – сам пойду к князю с повинною: пускай тиранит, потому, значит, поделом, – лишь это заслужил. А насчет, чтобы не бежать, – ты, мать, слушай: чем охать да плакать, скажи: какого же добра нам тут дожидаться? Сама говоришь, что, коли слух о нас дойдет до князя, так он нас живьем съест, закопает… Значит, покуда целы, – уноси свои кости! И сами уйдем, и тебя с собой уведем.
– Он нас на дне морском найдет!
– Это еще бабушка надвое сказала. Земля велика, а мозги не у одного князя в голове положены. Мы сами с усами: тоже не дуром побежим, а с оглядкою, не сейчас за руки схватимся да втроем в лес… Дело это надо устроить тонко… Время еще терпит. И опять же: найдет ли нас князь, нет ли, кто знает, а здесь под его рукою мы наверняка пропадем. Ты молчи, мать, я это дело сейчас обмозговываю, а как обмозгую, ни к кому другому – к тебе же приду на совет, и как ты скажешь, так и будет.
Матрена ходила, думала, и чем больше думала, тем больше тянуло ее к выдумке Консты. Волкоярская скука сделала свое дело и взбунтовала против князя еще не старую и охочую пожить бабу.
– Тоже сказать, – рассуждала Матрена, – пишусь я вольною, за двумя посадскими мещанами замужем была, а какую из-за этого, прости Господи, ирода-князя, волю себе видела в жизни? Хуже крепостной! Ответ мой перед князем большой, и беда мне теперь пришла неминучая. Грех этот Зинушкин, – что шило, в мешке не утаишь. Если и будет такое счастье, что никто не уследит, не догадается – а где уж? и надежды такой не имею! из дворца-то змеиши за нами по пятам ползают, все грехи наши стерегут, все ошибочки считают, – как не доведаться? Да и мудреного нет: месяц-другой пройдет, – он сам себя выдавать станет. Зинушка – король-девка… Кто ее узнает? может, и сейчас уже ходит не порожняя. А уйти можно. Только бы лесищем пробечь, а там – в скиты. С староверами возиться мне не впервой. Я еще в Костроме тому научилась. Кормилась тоже от них и все их обряды произошла. В какой хочешь толк попаду и не ударю в грязь лицом. В скитах примут всякого – только ругай никониан посолонее, крестись двумя перстами да покажи деньги; так тебя упрячут, что ни князю, ни Муфтелю, ни какому пройде-ярыжке и в ум не вступит. Но только с одним Констою уходить боязно: малый он у меня, – что его хаять? – головитый, да молод и горяч, и сторону нашу плохо знает… Нужен нам, хоть убей нужен, еще товарищ – из тутошних… А кого взять? Народишка неверный, плюгавый… как ты с ним заговоришь об эдаком деле? Антипку разве взмануть? Ходок бывалый, опытный…
– Слышь-ка, Антипушка, – завела она при случае речь со старым бегуном, – вот ты все волю хвалишь да новые места. Скажи по правде, по истине: кабы тебе была возможность бежать, побежал бы ты снова на волю?
Антип ухмыльнулся.
– Что любопытна стала? Аль сама загадала бежать?
– Ой, что ты! – засмеялась Матрена, – это у меня Конста твердит: бегу да бегу! – только бежит-то он все на одном месте; вообще спрашиваю.
– Если вообще, то и я тебе скажу вообще. Слушай, – строго заговорил Антип. – Девять годов назад я убежал в отчаянности, с большого горя, не понимаючи самого себя. А как избыл я от себя первое сердце да поглядел кругом на Божий мир, так и захватило мне душу волею. И понял я тогда, что только с волею и видать человеку мир Божий, а без воли у человека и глаз нету, в рабьей он слепоте. И стал я в ту пору себя корить и проклинать: с чего я, дурень, загубил свою жизнь в волкоярских кандалах? Только на седьмом десятке и свет увидал! И все десять годов прошли, словно сон приятный. А вспомнить – что в них было радостного? Какая сладость для тела? Ничего. Не покоил я старые кости, а трудами трудил. В тюрьмах сиживал. По этапам через всю Россию прошел, непомнящим сказывался, кандалами звенел, на пруте ходил, из-под караулов бегал, и голодал, и холодал, и бивали меня, и обкрадывали.
– Сохрани Бог всякого!
– Да все на воле, Матреша, на воле! А с нею, голубушкой, все сладко. Лучше ее не выдумал человек ничего. Воля – весь человек! Есть воля, и человек есть. Нет воли, и человека нет… Так, склизь!
– Так что, если бы… – медленно начала Матрена. Старик, взволнованный, замахал руками.
– Нет, Матреша, ты меня не мани, сердца не вороши…
– Да я не маню, – куда мне тебя манить? Бог с тобой! – отнекивалась смущенная Матрена.
Но старик ее не слушал:
– Эх, родненькая, был конь, да изъездился! Кому и какой я товарищ? Дряхлец! Мне коли куда бежать, так разве в могилу. Сейчас мне, голубка, та воля уже не нужна. Потому что старому ненужному кобелю всюду воля. И здесь мне воля. И управителю я так сказал, и тебе говорю. Хо-хо! Я, друг, свое изжил: дошел до ямы, с меня ничего не стребуешь – взятки гладки. Пиши меня чьим хочешь рабом, а я, друг, свой стал. Никому не надобен, потому и свой. Выходит: поздно мне бежать, слаб, только товарищей собою свяжу. Да и дело здесь есть. Большое дело. А то побег бы с вами, непременно побег.
– Что ты, дедушка, право, все с вами да с вами! – лепетала Матрена; – она совсем оробела при виде неестественного оживления, овладевшего стариком. – Я тебя так, для примера, спросила, а ты уж невесть что подумал.
– Эх! – с досадой крякнул расходившийся Антип и стукнул костылем, – полно, Матренушка, не хитри. С кем хитришь? С Антипом – бродягою! Я не колдун, да под тобою на три аршина вижу… Начала сказывать, так досказывай. А то, пожалуй, и помолчи: сам доскажу. Знаю я ваши дела, все знаю.
– К… к… какие дела?
Матрена затряслась всем своим тучным телом. Антип посмотрел на нее.
– Вишь, – даже вся пополовела… И доказывать-то на тебя нечего: лицом себя выдаешь… Неладно так-то!.. Ты не трусь, Матренушка – князю доносить не пойду. Кабы хотел доносить, так привел бы его сиятельство полюбоваться еще в ту пору, как твой Конста с княжною впервой обнимались под яблонью.
Голос старика хрипел, глаза искрились, усы ощетинились…
– Ох, дедушка! – почти завыла Матрена, – пропала моя голова. И охватить умом не умею, чего мы натворили. Мысли-то – так вот и мчатся кувырком, будто турманы…
– Так ему, злодею, и надо! так и надо! – брызгая слюною, шамкал Антип и тыкал костылем в сторону главного дома. – Погоди. Я тоже поднесу ему, демону, закуску в жизни! За всех – за себя, за княгиню-покойницу, за Матюшу, неповинную душу, внука загубленного. Что мы знаем, то знаем. Сладкая будет закуска. Хо-хо! Скрючит от нее.
– Ты что же, дедушка, неладное, стало быть, что-нибудь проведал про князя?
Матрена насторожила уши. Антип подозрительно осмотрел ее косым взглядом:
– Это, друг, не твоего ума дело.
– Пожалуй, не сказывай: я спросту.
– Ни тебе и никому не узнать, пока не придет смерть – либо за мной, либо за князем. Должно, я помру раньше. Хо-хо! Посмотрю перед смертью, как его задергает. Хо-хо!
– Не смейся, дедушка! страшно!
– Хо-хо-хо… Без того сам не помру и его со света не отпущу!
Матрена слушала старика с ужасом. Он казался ей сумасшедшим.
Но Антип опамятовался и, видя расстроенное лицо своей собеседницы, продолжал спокойнее:
– А коли ты что желаешь знать насчет ухода, – посоветую. Говори.
Матрена изложила ему свои сомнения… Антип рассмеялся.
– Чудная ты баба! Ищешь рукавицы, когда они за пазухой… Какого же тебе надо товарища лучше Михаилы Давыдка?
– Давыдок!
Это имя мгновенно осветило Матрене целый план, значительно упрощавший в ее глазах возможности бегства.
– О, Господи! – какая же я была дура, что о нем забыла. Просто затмение нашло. Вот спасибо-то, Антипушка, что навел на разум!.. А только пойдет ли?
– Пойдет. Кто его удержит? Вольная душа. Загнала беда сокола в клетку, – ну и терпит, сидя на жердочке. Спит воля. А ты позови, разбуди. Пойдет.
– Да уж лучше-то нельзя и выбрать – хоть весь свет обыщи!
Любимый егерь князя Александра Юрьевича, Михайло Давыдок носил истинно здоровую душу в своем здоровенном теле: он не пил, не играл ни в подкаретную, ни в орлянку, не путался с беспутными женщинами волкоярской дворни. За ним водилось только две слабости. С одною он родился на свет: то была страсть к охоте, и даже больше самой охоты, – к лесу. Он знал в лесу наизусть всякую тропинку, всякий уголок – на десятки верст кругом. Лес был его стихией: он чувствовал себя в лесу, как птица в воздухе, как рыба в воде. Стоило ему ступить на опушку, чтобы его красное лицо вдвое ярче засияло от улыбки, стало вдвое добрее и даже красивее. В болота, считавшиеся непроходимыми и действительно непроходимые для непосвященных, он неустрашимо вступал с ружьем своим и лягашем Сибирлеткою и открывал твердые звериные тропы по торфяным кочкам и старым колодам.
– И как только ты, Давыдок, терпишь, – все в лесу да в лесу? – спрашивали егеря. – Ты, должно быть, на лес слово знаешь.
– Чем в лесу нехорошо?
– Жутко… Зверье это… сверчки… тишь… От одного лешего, чай, сколько страха наберешься!
– Вона – невидаль! – хладнокровно возражал Михайло, – что мне леший? Я, брат, сам себе леший.
И, глядя на его огромную фигуру, собеседник невольно приходил к заключению:
– И точно – никак сродни!
Второю страстью Михаилы, благоприобретенною и недавнею, была сама Матрена-Слобожанка, которую он, на общее удивление, залюбил с тех пор, как года три тому назад пировал с нею на одной дворовой свадьбе. Он ухаживал за Матреною без всякого успеха, но с редким постоянством. На других баб Давыдок и смотреть не хотел, хотя с барским любимцем все кокетничали. А для Матрены даже выучился – очарования ради – играть на еще новом в те годы, только что пошедшем в народе, чтобы убить балалайку и гусли, инструменте – двухрядной гармонике, и быстро сделался настоящим на ней виртуозом. Вообще, музыкальные способности Давыдок имел чудесные и прекрасно пел – голосом, могучим и длинным, как он сам, но гибким и вдохновенным. И эту способность тоже высоко ценил в нем князь Александр Юрьевич, большой любитель русских песен. Когда Михайло, бывало, запевал своего любимого «Орла», то князь непременно либо окно в кабинете своем откроет, либо на балкон выйдет… Как колокол, гудит Михайло над садом:
Как летал-то, летал сизый орел по крутым горам,Летал орел, сам состарился,Пробивала у него сединушка между сизых крыл,Побелела его головушка, ровно белый снег…– Это он про меня поет! – шепчет князь.
Потупели у орла когти острые,Ощипались у него крылья быстрые,Налетели на орла черны вороныДа терзали они его, сиза орла…Качает князь головою, ногою притопывает, рукою в такт бьет.
Эх, не прежняя-то моя полеточка орлиная!Да не прежняя моя ухваточка соколиная!Разбил бы я черных воронов всех по перышкуДа разнес бы их по дубравушке!И так разнесет голосом «по дубра-а-авушке», что сад отголосками застонет и лес за Унжею аукнется, а князь либо прослезится, либо обругается:
– И дьявол его знает, Михаилу Давыдка, где он пропадал до сорока годов с таким талантом? Если бы не ушли его лета, я бы его в Питер услал, – пусть бы Михаил Иванович Глинка из него второго Петрова обучил.
А Давыдок уже во дворе ребят веселит – голосина юлит, гармоника хохочет:
Как на Вологде виноПо три денежки ведро!Хочь пей, хочь лей,Хочь окачивайся!Да поворачивайся!Сам был превоздержный на вино, – разве на большой праздник чарку выпьет, – а пел о вине так забористо, что с песен его и трезвенники запивали.
– И отчего вы, Матрена Никитишна, столь жестоки, – не желаете мне соответствовать?! – уныло вопрошал он, громыхая пред своей красавицей на гармонике. – Чем я вам не пара – закон принять?
– Ай, что ты, Давыдок! – хохотала Матрена, – какой с тобою закон? У тебя, сказывают, первая жена жива!..
– Жива, коли не померла… это верно! – соглашался Давыдок, – только я от нее, первое дело, за семь рек и семь гор переехал; второе дело, не жена она мне, не в обиду будь при вас сказано, но сука-волочайка; а третье дело, вот уже пятнадцать лет она не имеет обо мне никакого известия. Почему я вроде как бы разженился, вдовый стал. Закон такой есть. Мне поп сказывал.
– Страшно за тебя идти-то: ишь кулачищи… убьешь, – и дохнуть не успею.
– Зачем же убивать-с? Я такого греха на душу не возьму…
– Ой ли? А рожа у тебя – хоть сейчас тебя поставить с кистенем на большую дорогу.
Слушал Михаил о, слушал эти грубые шутки да и хватил:
– На большой дороге и без убойства работать можно очень прекрасно…
– Ишь ты! А ты работал, что ли?!
– А уж это наше дело; «нет» – не скажу, а «да» – промолчу. Я, сударыня моя, человек покладистый, применительный. Жизни слушаюсь. На рожон не лезу, а со всякого места и времени свое удобство беру. Волю знал – за волю стоял. Кабалу познал, – ну, стало быть, жди, терпи, помалкивай. Не черт тебя нес, сам увяз…
И засмыгал гармоникой, и затянул протяжным голосом:
Ходил, гулял добрый молодец,Искал места доброго,Не нашел-то добрый молодец места доброго,А нашел-то добрый молодец море синее,Камыши высокие, лопухи широкие…– Что ты, Давыдок, все грустное поешь? Веселую спой.
Подмигнул, загудела гармоника, залился высоко и сладко:
Ах ты, душенька, удалой молодец!Ты горазд, душа, огонь высекать!Часты искры сыплются,В ретиво сердце вселяются,Сиротою называются…Смотрела на него Матрена и думала: очень подействовали на нее полупризнания Михаилы, его смелое лицо и решительный взгляд человека, надо полагать, видавшего виды. Охота бежать разбирала между тем Матрену все больше и больше. Она пересчитала сотенные бумажки, в разное время подаренные князем Зине: их было почти на пять тысяч рублей. А еще у Зины оставались бриллианты, настоящей цены которых Матрена не знала, но все-таки понимала, что вещи стоят не одну тысячу. В ней заговорила алчность и охота пожить в свое удовольствие: она очень хорошо сознавала, что при настоящих условиях их жизни она будет хозяйкою этих денег гораздо больше, чем сама Зина.
– Купцами – где хочешь – заживем… И впрямь, ни в какие новые места не страшно уходить! – мечтала она.
Теперь уже не Зине с Констою приходилось уговаривать Матрену, а Матрена торопила Консту и каждый вечер пеняла ему, что он мямлит и теряет время.
– Осень на дворе: того гляди, начнутся дожди да слякоть, холода пойдут, вот тебе и ушли тогда! – попрекала она.
Конста отмалчивался и только лукаво подмигивал Зине на мать.
– Что моргаешь-то: распостылая душа? – горячилась Матрена. – Вон кузнецы-то трещат, – сигналы дают: осень глядит на дворе. Не слышишь?
– Пусть их трещат, стучат, – улыбалась Зина. – Я теперь их не боюсь.
– Пойдут дни короткие, ночи длинные, темные…
– Раньше спать ложиться будете, маменька! – дразнил Конста.
– А ветры-то лесные? У нас осенями сад под ветром, как море, гудит, деревья к земле клонятся, Унжа-то – аж белая станет…
– Ничего, маменька: под ветер лучше спится. Баюкает.
– Вот я тебя побаюкаю чем-нибудь потяжеле! Погубил ты нас! – взманить взманил, а толку никакого…
– Будет толк, мать! потерпи, не кипятись, а то печенка лопнет…
В противоположность своей озабоченной няньке Зинаровно ни о чем не думала и не загадывала, – была весела, жива, резва, как никогда раньше. Она чувствовала, что с плеч ее свалился тяжелый камень, придавивший было всю ее молодую жизнь: ужас перед отцом. С тех пор как Зина отдалась Консте, вера в его удаль и находчивость стала между нею и ее страхом. Отец оставался по-прежнему грозным и ненавистным, но ей как-то верилось, что вся его гроза теперь ни к чему, что Конста и умнее его, и ловчее, и находчивее, что он сумеет за нее всегда заступиться и выручить ее из беды, а князя проведет и оставит на бобах… Девушка была влюблена сильно, но в кого собственно: в своего любовника или в обещанную им свободу? – решить было бы трудно. Восторженное настроение делало Зину временами почти красавицей: она пополнела и как будто еще побелела от этого; живой румянец не сходил с лица, глаза сверкали, как звездочки. В дневные жары она с полдня до вечера пролеживала навзничь на своей любимой скамье под яблонею, следя в небе полет птиц и движение облаков… В уме ее блуждала лишь одна мысль: «На волю! а потом – жить, жить, жить!..»