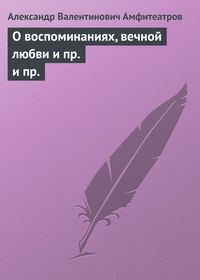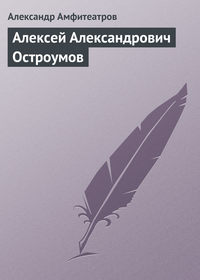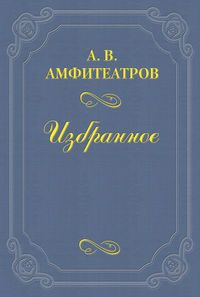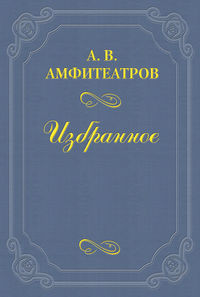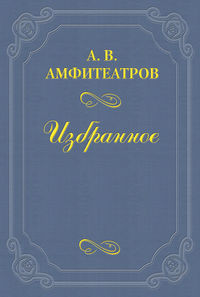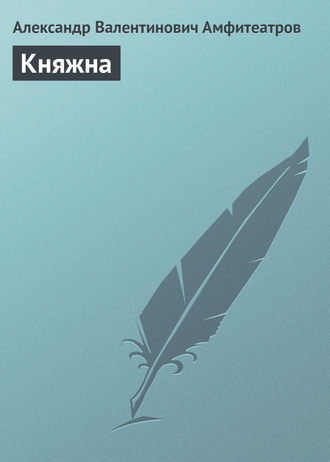 полная версия
полная версияКняжна
«Меньше тыщи рублев – сейчас издохнуть! – не возьму, – мечтал волкоярский проходимец. – Так и скажу: клади об это место тыщу рублев, а то – к становому».
Каково же было его удивление, когда он нашел постоялый двор закрытым, замок на калитке, ворота плотно заперты, на ставнях засовы… От соседей он узнал, что Анисиму и Прасковье торговля показалась убыточной, и они продали свое заведение и передали аренду усадьбы дворнику из соседнего села. Новый хозяин в дело еще не вступал, а старые, получив деньги, живо собрали свой скарб и уехали.
– Куда? правду тебе сказать, милый человек, не знаем. Говорили, якобы на родину. А жаль: хорошие были люди, ласковые. Оттого и проторговались. С ласковостью да тароватостью нешто дворничать возможно? Тут собакой надо быть, разбойником.
Нашел Ефрем нового дворника. Осанистый, седоватый мужик – косая сажень в плечах – долго смотрел на него умными, равнодушными глазами.
– Ты что же? сродни, что ли, Анисиму будешь? – спросил он наконец.
– Нет… мы так…
– А коли так, нечего тебе, парень, о них и беспокоиться, обивать чужие пороги.
– Должок, признаться, за ним остался, – хитрил Ефрем.
– До-о-лжок? – насмешливо протянул дворник, – ну, брат, жаль мне тебя: надо полагать, получишь на том свете угольками… Анисим теперь – ау где! Ищи ветра в поле.
Ефрем разгорячился, – ему почему-то казалось, будто старик отлично знает: и кто такие были Анисим с Прасковьей, и по какому делу он их ищет, и куда они уехали. Терять ему было нечего, и он откровенно объяснился с дворником.
– И ежели теперича, Прохор Иваныч, ты таких воров будешь укрывать, – заключил он, – то и сам попадешь в ответ пред начальством.
– Что ты такое бредишь, парень? Даже удивительно! – спокойно возразил дворник. – Никаких твоих историй я не знаю и знать не хочу. Мне продали, а я купил – вот и все мое дело, и весь ответ. Расписки имею, бумаги в порядке. А кто что продал, – пущай начальство разбирает, коли надобно; наша торговая часть – сторона. Начальству же мы, слава Богу, довольно известны: старожилы здешние. И еще я тебе скажу. Ты говоришь, что Анисим мошенник и названец. А, по-моему, мошенник-то выходишь ты. Анисим человек торговый, с понятием, с деньгой. Ребенок у него родился, – становиха в кумах была: во как! А ты приходишь на него мараль пущать: явное дело – сорвать хочешь… За это, брат, тоже вас, прохвостов, не хвалят. Ведь, коли что знаешь, доказать надо. А докажешь ли? полно, поручишься ли наверняка? А ну, как не докажешь? Чай, сам пословицу знаешь: доносчику первый кнут.
– Да помилуй, Прохор Иваныч…
– Нет, парень, ведь это я так говорю, жалеючи твоего глупого разума, а по мне – как хочешь… Лови жар-птицу в осиновой роще, ищи княжон по постоялым дворам.
Ефрем настаивал. Дворнику это наскучило, и он честью предложил кучерку:
– Вот Бог, а вот порог.
Очутившись на улице, Ефрем поохал, повздыхал… и, не солоно хлебавши, побрел восвояси кучерить у прасола.
XНад Волгою ложились сумерки. Под мутным темнеющим небом река отливала свинцом и сталью. День прошел нехороший – холодный и ветреный, – а ночь обещала быть еще хуже. Люди на большой барке, спускавшейся по течению от Васильсурска, дрогли и кутались. Барка была нагружена прессованным сеном – в ту пору совсем новостью и редкостью. Какой-то агроном занялся этим производством на заливных приокских лугах и теперь сплавлял первый груз, как пробу, Другому агроному под Казань. В Васильсурске на барку попросились довезти их до Казани мужчина и женщина с малым ребенком и довольно вескою поклажею. Это были Зина и Конста. Потолкавшись в суете Макарьевской ярмарки, они осторожно спускались к низовью – в намерении пробраться через Астрахань и Каспий в Закавказье, где русскому смышленому человеку была в то время жизнь вольная – как у Христа за пазухой. Люди были нужны. Какие люди и что у них за паспорта, не очень разбиралось. По крайней мере, так уверяли Консту тифлисцы, с которыми случай свел его у Макария. Он решил попробовать счастья в Тифлисе. Зина, по обыкновению, не прекословила.
– А если не выгорит наше дело в Тифлисе, махнем на Черное море – там рукой подать. И Адест город, и Туречина… куда захотим, туда и поедем.
В каких именно расчетах стремился Конста в Тифлис, они сам не знал. Но он был уверен, что сумеет пристроиться к какому-нибудь прибыльному и подходящему для себя занятию. Конста был искателем приключений по самой своей природе. Способностями он обладал удивительными и не без основания полагал о себе, что он годится на всякое дело. В течение двух месяцев, что они с Зиной промыкали по Поволжью, он успел научиться говорить по-татарски – не только сносно, но даже не без щегольства… А уж ругался совсем артистически.
– Экая жалость, – говорил он Зине, – что ты по-французскому и немецкому разучилась!..
– Да я и знала мало. Как меня учили? По-французскому Амалия Карловна сама была плоха – еле плела. А от немецкого меня с души воротило. Не хотела я говорить.
– А ей бы тебя присадить!
– Где уж? Ведь она всегда была больная – хворая, кислая, безногая.
– Жаль, крепко жаль! А то бы я у тебя живо перенял. Кто по-французскому говорит, – хорошо. Не страшно и с господами обращение иметь, и в господа самому вылезть. Нешто приспособить француженку какую в Тифлисе?
Пошутил Конста, да и сам был не рад. Всегда спокойное лицо Зины сперва побелело, потом побагровело, губы затряслись, глаза стали огромными и с тусклым отблеском, как олово… «Князь! вылитый старый князь!» – мелькнуло в памяти смущенного Консты.
– Ты никогда не смей мне говорить такого, – хрипло сказала Зина, оправляясь. – Я не люблю. Ты не смотри, что я стала тихая. Во мне черти сидят. Расходятся, – будет нехорошо.
– Глупая… ведь я в шутку!
– И в шутку не надо. Не хочу я, чтобы таким делом шутить… Оно у меня – только одно и есть на свете. Мой ты – больше ничего!.. целуй меня скорей!.. целуй!.. обнимай!..
Ее охватил один из тех порывов страсти, от которых не раз делалось жутко даже самому Консте. «Эдакая же зверь-баба! – думал он про себя, – ну хорошо, что любит, ласкается… А ведь случись между нами какой разлад, она зарежет – не охнет…»
Барочный приказчик – длинный, как червь, мещанин из-под Рязани, худой и томный, с сладкою вежливою речью – уступил супругам свою рубку, они завалились спать. Но среди ночи Консту всполошили крики и топот на палубе… Он в одной рубахе выскочил из рубки… Громадный косой столб розового пламени встал пред его глазами… Барка горела, как свеча. Люди в отчаянии метались от борта к борту, оглашая темную ночь раздирающими душу воплями о помощи.
– Зинаида!.. вставай… беда! – не своим голосом закричал Конста и, сорвав со стены жилетку, где были зашиты у него деньги, быстро напялил ее на плечи.
– Лодку… Лодку… Ло-о-одку! – вопили погибающие.
Но лодок не подавали. Пожар вспыхнул, когда барка находилась в промежутке двух береговых сел – до обоих было версты по четыре. В дрожащем красном свете, игравшем по чешуйчатой реке, видно было, как на берегу метались бурлаки-бечевщики. Слышны были их голоса… Они совсем потерялись, бессильные подать помощь товарищам на барке, потому что бечева перегорела.
Сено горело, как свеча, почти без дыма, с невероятной силой, яркостью и быстротой. Пламя раздувалось, как флаг, махало красным языком по всей палубе. На барке нельзя было дольше оставаться.
Люди стали бросаться в воду. Приказчик соскочил первым и… на глазах Консты пошел ко дну. Его маленькая голова вынырнула раза два и пропала. Зина с ребенком на руках глядела на черную рябь реки, которую пожар окрашивал точно кровью.
– Ты умеешь плавать? – спросил ее Конста. Сам он плавал, как рыба.
Она отрицательно покачала головою. Сквозь пламя, по зыблющимся, подгорающим доскам, Конста прорвался в рубку барки, схватил из угла пустой бочонок, и в два прыжка очутился возле Зины… Доски сзади его обломились; взвился сноп искр, и пламя лизнуло ему спину красным языком. Обожженный, в пылающей одежде, бухнулся он вместе бочонком в Волгу.
– Прыгай ко мне! – кричал он.
Зина прыгнула, и – не успела глубоко окунуться, как Конста уже подхватил ее сильною рукою и увлек от барки: она вся превратилась в пламя, крутящееся под ветром.
– Держись за бочонок!.. – быстро говорил Конста.
Но Зина, вычихнув набравшуюся в ноздри воду, огляделась безумными глазами и – к воплям, разносившимся по реке, прибавился ее отчаянный голос:
– Дашка! где моя Дашка?
Тут только Конста заметил, что ребенка на руках у нее нету. Очутившись под водою, Зина невольно развела руки, и спеленатый кусок живого мяса, как свинец, канул на дно реки.
Конста застонал… Но время не терпело. Он заставил Зину опереться на бочонок и поплыл к берегу, толкая ее рядом с собою. Зина так глубоко лежала в воде, что снаружи виднелись только нос да губы. Тянуть ее за собой было каторгой… С Волги уже слышались голоса людей, спешивших на лодках выручать погибающих. Но лодки были еще далеко, а Конста терял последние силы. Мокрая одежда становилась все тяжелее и тяжелее. Осиплым, сорвавшимся голосом звал он на помощь…
До темного берега оставалось еще саженей пятнадцать. Зина все грузнее и грузнее опускалась в воду; руки ее обессилели… бочонок от нее ускользнул. Сверхчеловеческим усилием Конста поймал его и опять дал ей в руки. Потом, держась правою рукою за тот же бочонок, левою он схватил Зину за ее разбитую мокрую косу и поплыл, ежеминутно глотая воду…
– Не могу больше… – простонала Зина…
Ее тяжесть опять потянула Консту ко дну. Но дно оказалось уже неглубоким: Конста достал его ногою. Торжествующий крик вырвался у него из груди.
– Зинка, не тони! Зинка, держись! – хрипел он, – минуту еще… одну минутку…
Вода была уже по плечи Консте… Он шагнул раз, другой, волоча за собою бесчувственную женщину, и остановился на безопасном месте, держа ее на плече: вода была немного выше пояса. Счастливая звезда вынесла Консту на отмель… здесь их и подобрали.
Барка затонула… да, надо полагать, немного от нее и оставалось, когда она пошла ко дну, судя по обилию и мелкости обгорелых обломков: суток двое вылавливали их окрестные мужики. Выловили пять трупов: живыми с барки ушли только Зина с Констой, да и то, относительно первой, трудно было сказать, чем кончится для нее страшное потрясение… Кроме пережитого ужаса, глаз на глаз с неминучей гибелью, кроме простуды в осенних водах, кроме потери ребенка, ее постигла еще беда, – она выкинула, и теперь, лежа на палатях крестьянской избы, в горячечном бреду, колебалась между жизнью и смертью.
Конста отделался ожогом и лихорадкой. Он высох и пожелтел – даже до белков глаз. У него было другое несчастие. Когда он, взятый лодочниками, очнулся и пообсушился, первою его мыслью было: «А наши деньги?» Он нащупал место, где зашиты были ассигнации… Пусто!.. Консте надо было много самообладания, чтобы не закричать: «Караул! Ограбили!..» Он сдержался, осмотрел себя и – все понял: второпях, выбегая из рубки, он сорвал с гвоздя и надел вместо своей жилетки – жилетку погибшего приказчика.
– Купец! Бумажник-от не потеряй, а то выпал было, как тебя из лодки выносили, – заметил ему хозяин избы, указывая на кожаный бумажник, бережно положенный на божницу.
Конста жадно схватился за мокрый бумажник: денег в нем была самая малость, пятьдесят рублей, приготовленных приказчиком на мелкие расходы. Это был весь капитал Консты и Зины – на всю жизнь… Консте стало страшно.
– Ты из каких будешь, купец? – приставал к Консте хозяин.
Но он бессмысленно смотрел на мужика и ничего не отвечал.
– Не трожь его, не замай, – вступился кто-то. – Вишь, перепужался парень, слов лишился. Ужо отойдет, – расспросим. К тому часу и становой подоспеет…
– Не засудили бы нас за тебя, купец… – сомневался хозяин.
– Вона – засудили! – возражал защитник Консты, – за что? Нешто мы убили кого али ограбили? Двух человек спасли… нам медаль надо! А что пожар, – мы тому неповинны.
– А бурлаки-то, что в лямке шли, сробели, сбежали.
– Им как не робеть? Небось беспаспортные. Попал в дело, – вот и бродяга. В острог – да по этапу. А теперь время горячее – Макарьевская. Цена бурлаку – рупь в день. Расчет ли ему с начальством валандаться? Сбежишь!
Оставшись один, Конста еще раз пересмотрел содержимое бумажника. Кроме денег, там лежали кое-какие торговые записки и счета и четыре паспорта: самого приказчика, двух бурлаков и артельной стряпухи… Остальная босая команда, должно быть, и впрямь была беспаспортная. Паспорта были чуть-чуть попорчены водой… Конста задумался. Это тоже было богатство в своем роде.
Назавтра, на вопрос станового, как звать, – Конста, не моргнув глазом, ответил:
– Андрей Иванов Налимов, из дворовых, вольноотпущенный человек господ Турухайских… Торгуем, по малости, красным товаром…
– Так, – сказал становой, просматривая вид, – а барка чья?
– Не могу знать, ваше высокоблагородие. Мы сели в Васильсурске с бабенкой этой, что валяется в клети больная. Приказчик посулил подвезти вещи до Казани, да вот и попутал грех. Всего имущества лишились; деньги, какие были в сундуке, – все взяли огонь да вода. Тысяч на восемь горя купили… Да! Бабенки-то моей паспорт прикажете, ваше высокоблагородие?
– А почему он у вас? – уже вежливо спросил разоренного тысячника становой.
Конста потупился.
– Что греха таить, ваше высокоблагородие? Который год уже любимся… Все равно, как жена.
Все было в порядке. По новому паспорту Зина числилась зарайской крестьянкой Марьей Прохоровой… Приметы были подходящие, – то есть, вернее сказать, обычные для всех: волосы русые, глаза серые, нос и рот обыкновенные, лицо чистое, особых примет не имеется. По видимости, ничего незаконного в личностях Налимова и Прохоровой не усматривалось… Хотел было становой для очистки совести порасспросить самое Прохорову, но Зина лежала без памяти, ничего не понимала и даже не бредила.
«Красивая какая!» – подумал становой.
Паспорта остались при деле, а Конста и Зина получили проходные свидетельства в Казань. Становой – сочувствие сочувствием, – но все-таки за свидетельства сорвал с Консты. Надо было заплатить и хозяевам за подмогу и содержание и одежонку хоть какую-нибудь купить.
Недели через полторы богатырская натура Зины взяла верх над болезнью. А еще через неделю Конста уже вез ее – еще бессильную и тощую, как скелет, – на мужицкой телеге в Казань…
Ну, Константин, – думал он, подпрыгивая на облучке, – теперь держи ухо востро. Забота у нас на плечах великая, а денег – красная бумажка. Пропадем али не пропадем? Эх, да ужли ж ни у меня, ни у Зинки звезды нет на небе? Авось Бог милостив… выручит нас Казань-городок…
XIКазань в то время была город дикий не дикий, да и не цивилизованный. Казань по-татарски значит «котел», и она, действительно, была котлом, в который сплывало и в котором перекипало всевозможное злополучие человеческое, стекавшее из крепостного Заволжья – до Уфы и Оренбурга, из заводских губерний, бежавшее с сибирского поселения и каторжных работ. Миновать Казань ни в Сибирь, ни из Сибири было невозможно. Она была как бы первым европейским узлом, к которому тянула русская Азия: Уфа, Оренбург, Пермь, Вятка – были для нее еще как бы этапами и далекими пригородами. Поэтому много беглого и преступного народа – сибирских поворотников – брали в Казани, но еще более их застаивалось в ней, пережидая фортуны, чтобы от Бакалдинской пристани сплыть на низ к Жигулям или наверх к Нижнему. Область имела и отчасти оправдывала репутацию неспокойной. Совершить поездку, например, из Уфы либо даже из ближайших уездных городов в Казань почиталось путешествием нешуточным и небезопасным, потому что разбои на больших дорогах были обыкновеннейшим явлением. На проводах отважного путешественника служились молебны, семья ревмя ревела, точно родитель ехал не в губернию по делам и за покупками, но на кровопролитную войну. Проезжая дворянскими усадьбами, путешественник видел их какими-то крепостями. На ночь окна в помещичьих домах запирались крепкими ставнями и железными болтами; в дверях сеней вырезывались круглые отверстия – бойницы для стрельбы по непрошеным ночным гостям; ружья всегда были наготове. Стучась в такие укрепленные двери, надо было не зевать и немедленно отвечать на оклик, – иначе хозяева стреляли. Мензелинский помещик Левшин таким образом чуть не убил исправника, который вздумал с ним пошутить и «попугать». Под самою Казанью бродили два разбойника: Быков и Чайкин. За первым считалось 105 собственноручно им загубленных душ, за вторым – 90. Они соперничали в жестокостях, кто лише отличится. Самою излюбленною забавою этих людей-чертей было вскрывать животы беременных женщин и рассматривать младенчиков. Когда их схватили, то не полиция и не солдаты стерегли острог, а народ с него глаз не спускал, боясь, чтобы двуногие звери не вырвались на свободу для новых злодейств. Весною 1849 года Быков и Чайкин были выведены на Арское поле для наказания шпицрутенами. Быков был приговорен к двенадцати тысячам ударов, Чайкин – к десяти тысячам. Это было равносильно смертной казни. Тем более, что солдаты условились не давать пощады и били разбойников с ожесточением, – даже, говорит очевидец, «в противность уставу, выбегая из строя». Смотреть эту страшную живодерню валил народ даже из уездов. Никогда Арское поле не вмещало более многолюдной и злорадной толпы. Полного наказания Быков и Чайкин не вынесли и умерли в госпитале на второй или третий день.
Страшная школа, в которой вырабатывались подобные характеры, лежала между Волгою и Уралом. Только что взяли в опеку уфимского помещика, приятеля графа Канкрина, пресловутого Анастасия Жадовского, злоупотребления которого помещичьим правом и в XVIII веке, в екатерининское раздолье дворянской вольности, были бы необыкновенны. В Мензелинском уезде сидела, как баба-яга, «живая покойница», Евгения Ивановна Можарова, которая засекала девок своих за неубранную тряпку, за неопрятный передник и имела нарочный сарай-застенок, где, если жертва умирала под розгами, ее тут же, под скамьею для секции, зарывали под землю, и место аккуратно заравнивали песочком. Когда злодейства Можаровой дошли до Петербурга, произведено было следствие, и дело перешло в Сенат, то спасти эту новую Салтычиху могло только одно средство, героическое, но довольно обыкновенное в старых крепостнических нравах: юридическая смерть. Ценою огромных затрат и взяток показали Евгению Ивановну умершею и дело «предали воле Божией», а Можарова втихомолку спокойно доживала свой век. Характера своего «живая покойница» нисколько не изменила. Жестокие ревматизмы уложили ее в постель. Дни ее были сочтены. Врач посоветовал разглаживать ее теплыми утюгами. Умирающая и тут осталась себе верна. Гладильщицы ее то и дело вскрикивали и обливались кровью. Оказалось, что старая ведьма добыла где-то вилку и подгоняет ею усердие прислужниц, и колет их, когда находит, что они ей мало помогают.
Грозные зверствовали, добрые глумились. Провинившегося лакея кроткая помещица, не признающая телесного наказания, ставила на коленях посредине двора и заставляла вязать чулок. Горничная, не выполнившая приказания, приглашалась в гостиную, – сажали ее на место барыни, на диване, подавали ей чай, говорили ей «вы» и «чего изволите», – до тех пор, пока виноватая не валилась в ноги, моля простить ее и освободить от непривычного приема и угощения. Если мужик сказывался больным и отлынивал от барщины, его помещали в отдельную комнату в барском доме и лечили диетой, – давали вместо обеда кусочек белого хлеба и рисовый суп. Обыкновенно больной спешил выздороветь, но бывали и такие гордецы, что, к удивлению гуманной исправительницы, выздоровев, ударялись в бега и увеличивали собою число вольной казанской голи.
Совсем не редко было встретить в помещичьих домах наследие XVIII века – шутов и шутих. Пожилой мужчина в усах и бакенбардах, но в сарафане, ожерельях на шее и с серьгами в ушах во многих дворянских усадьбах, особенно поглуше, вдаль от Казани, вглубь уездов, встречал гостей ужимками своими. Если какой-либо гость, вкусивший европейского прогресса, выражал недоумение, хозяева оправдывались:
– Наше дело деревенское, частенько бывает, что и соскучишься. Что делать? Ну и велишь позвать дурака, а он и начнет городить всякую чепуху, а не то как-нибудь кривляться, прыгать станет. Ну, подчас и рассмешит, и слава тебе, Господи! А у нас дурак и презабавный, право!
Крепостные цепи были всюду напряженные, сторожкие. Почти сто лет минуло с Пугача, но обе стороны его помнили, как вчерашний день, и принимали, как урок. Отсюда дикая суровость помещиков, чувствовавших за собою непобедимое засилье. Отсюда нелюбовь крестьян даже к тем барам, которых они сами почитали добрыми и справедливыми. Редкими были примеры хороших взаимоотношений между душевладельцами и душами владеемыми. Листовские, Левшины гордились, что «крепостные их любят», но любовь эта принималась на веру. Старушка Лорер, уверенная в том же, на восьмом десятке лет, устав управлять имением и не имея наследников, отпустила на волю тысячу душ, ей принадлежавших, и подарила им все свои земли и угодья – с тем, чтобы крестьяне до конца ее жизни выплачивали ей по две тысячи рублей ежегодно, да сверх того, тоже до конца барыниной жизни, давали бы по два работника в день для работ по господскому саду и усадьбе. Крестьяне, бесконечно благодарные благодетельнице, обязательства свои исполняли честно.
– Только, – жаловалась старушка Лорер, – с некоторых пор, видно, им надоело работать у меня в саду. Вот они и ропщут. А иногда подойдет работник к окошку, где я люблю сидеть, да и начинает меня усовещевать: «Матушка, грех тебе! Чужой век зажила! Смерти на тебя нет! Долго ли нам еще тут маяться?..» Такие озорники, право! А что ж мне делать? Видно, так Богу угодно. Ведь не руку же на себя в их угоду накладывать.
У лютых помещиков народ гнул голову, стиснув зубы, мечтал о близкой воле и все ждал какого-то таинственного царя Михаила:
– Идет царь Михаил. Он был заключен до сего времени за двумя железными дверями и шестью замками, а теперь вышел на свободу. Идет он не один, с ним большое воинство, и хочет он извести всех бар на русской земле. Всю землю царь Михаил отдает крестьянам во владение, а помещикам не оставляет ничего.
Кто утомлялся ждать царя Михаила, бежал ему навстречу – большого воинства не находил, но сам утопал в великом воинстве всероссийской бродячей вольницы.
В самой Казани воровство шло страшное. Полиция вменила домохозяевам в обязанность иметь дворников, а кто не в состоянии – держать дворовых собак. На Ляцкой улице скупой профессор Мастаки, «так как был уже в отставке, значит, имел много свободного времени для отдыха в течение дня, то ночью принимал на себя роль собаки: он садился на лавочку за воротами и лаял. Все-таки старость, при порядочной тучности, брала свое, и Мастаки частенько дремал. Но, точный в исполнении принятых на себя обязанностей, просыпаясь, он не забывал своей роли и каждый раз пробуждение свое знаменовал лаем. Однако спросонья не всегда удачно выходило у него подражание, что раз заинтересовало одного из товарищей-профессоров, проходившего по этой улице. Он подошел к дому Мастаки, луна осветила фигуру дремавшего грека. Шаги заставили его проснуться, но вместо приветствия он встретил товарища собачьим лаем».
Улицы были первобытны и едва освещались. За Булаком не было тротуаров и мостовой, а только деревянные мостки, не было фонарей, и извозчики туда ехали неохотно даже днем, а вечером – ни за какие деньги. Лужи-непересыханки разливались там во всю ширь улиц, и существовал промысел переноса через грязь, за две, за три копейки, на широкой спине и дюжих плечах босяцких. Очевидец рассказывает, как однажды среди такой лужи живой конь, несущий нарядного студента к знакомым на вечеринку, был остановлен пьяным, который, видя перед собою силуэт человека с ношею на спине, принял его за шарманщика и скомандовал:
– А, шарманка, играй!
Живой конь заартачился было, но пьяный стал его поталкивать. Студент в ужасе, что вывалят его в грязь и пропал его бал, нашелся, шепнул на ухо подседельному своему:
– Верти рукой!
– Да что я буду вертеть? – изумился тот.
– Верти!
Подседельный стал вертеть рукою, а студент на его спине запел тоненьким голосом моднейший тогда романс:
Ты не поверишь,Ты не поверишь,Ты не поверишь,Как ты мила!!!Пьяный, послушав немного, промычал:
– Проваливай!
И побрел себе по луже, отыскивая, где посуше и удобнее отдохнуть, а студент благополучно перешел через Рубикон.
Утопая в своих даже не целебных грязях, казанцы могли утешаться только тем, что в других городах еще хуже. В Пензе англичанин, пленный офицер, утонул, – по-настоящему, до смерти утонул, – на главной улице, потому что вздумал гулять по городским мосткам – деревянному тротуару. Доска вывернулась из-под его ноги, он провалился в канаву под мостками, в текущую жидкую грязь, упал и задохнулся прежде, чем его успели извлечь. В Уфе новый губернатор отправился делать визиты и – завяз безвылазно в грязи. Карету его едва вытащили. Женщины не решались переходить через улицы иначе, как по накиданным доскам или нарочно протоптанным тропинкам: с дерзавших шагать напрямик грязь «снимала башмаки». Полагалось освещать город фонарями с конопляным маслом, но будочники поедали масло с гречневою кашею, и над Уфою царила прежняя темь. Тогда губернатор приказал прибавить в масло скипидару. Не совершенно помогло. Бутарское брюхо и скипидар выдерживало. А что за вонь и гадость распространяли подобные факелы, легко себе вообразить. Чтобы ввести в Уфу подобие городского освещения, понадобился совершенно исключительный губернатор, отказавшийся в беспримерном бескорыстии от обычной дани, которую откуп платил его предшественникам. Губернатора этого звали не то Талызин, не то Балкашин. «Сила привычки велика. Откуп, видя в своих книгах по губернаторской статье пробел, впал в превеликую тоску и, чтобы избавиться от нее, предложил освещать город спиртом. И всё, таким образом, устроилось как нельзя лучше: совесть губернатора была покойна, откуп избавился от тоски», а город обрел свет, так как золотопромышленник Базилевский подарил ему целых двести фонарей.