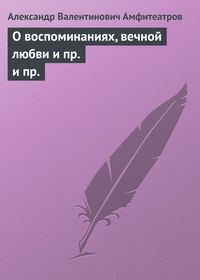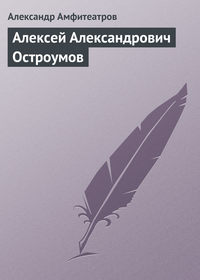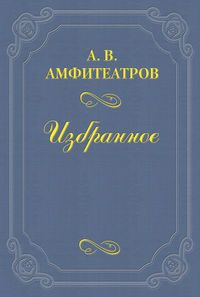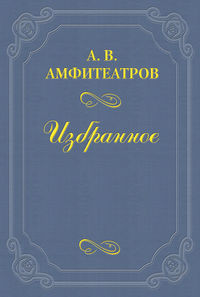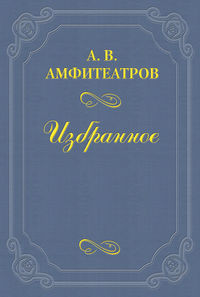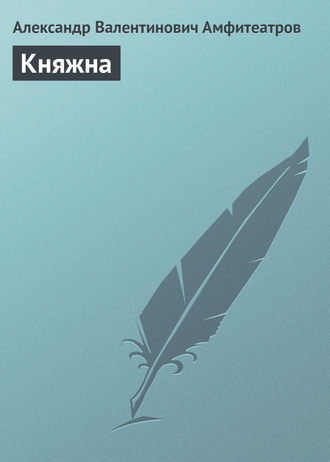 полная версия
полная версияКняжна
И оба хора сливались в «новой песне» – в таинственном гимне, общем всем без исключения толкам, хоть сколько-нибудь родственным хлыстовщине:
Царство ты, царство, духовное царство!Во тебе ли, царстве, благодать велика:Праведные люди в тебе пребывают,Живут они себе, ни в чем не унывают.Строено ты, царство, ради изгнанных,Что на свете были мучимы и гнаны,Что верою жили, правдою служили…Таевцы голосили с восторгом. Отвлеченный смысл гимна был далек от них. Каждый пел не о царстве «не от мира сего», но видел таинственное царство, – созданное «ради изгнанных, что верою жили, правдою служили», – здесь, в скрытом от грешного и враждебного мира Тае.
На горе, на полугореИ там стоял же зеленый сад,Деревья во саду кудрявые,А листья во саду зеленые.Хотели враги зеленый сад засушить,Хотели водами сад потопить, –Да кореньями сад укоренился,Да ветвями сад уветвился,Да листьями сад украсился!Гуляй, юнош, в зеленой дубраве,Где гуляют херувимы, серафимы,Вся небесная сила!В толпе было немало стариков, которые помнили, как Тай начался, как бежали они сюда, ревнуя о вере, от строгих архиереев, крутых бар и лихой полиции, когда на Поволжье начался сектантский разгром… Вспоминали они те жуткие дни, и тем громче, и радостнее становилось их пение: ведь на всем лице земли русской Тай, быть может, был единственным местом, где хлыст мог жить, думать, говорить и радеть, как ему угодно, вслух, без оглядки, не приставляя к сионской горнице зоркую и хитрую стражу, не нуждаясь в потайных дверях и лазах, в раздвижных стенах, в подпольях и подземных ходах.
Филат Гаврилович сорвался с места и, выбежав на середину горницы, под распростертого голубя-люстру завертелся, как волчок, на пятке правой ноги – сперва медленно, потом все скорее и скорее, пока наконец его высокая фигура в раздутой от быстрого движения рубахе не стала казаться огромным вертящимся белым колоколом. Не разобрать было ни лица, ни бороды.
За кормщиком рванулся один из послушников, другой, третий. Ветер ходил по горнице. Вертящиеся белые колокола шатались из угла в угол, точно придорожные вихри, и все росли в числе. Кто еще не вертелся, – те выкрикивали, что было мочи, песню, ускоряя ее напев, по мере того, как ускоряли свое движение «прыгунки»:
Ах ты, дух-голубок,Наш беленький воркунок,Не пора ли тебе, сударь,На сыру землю слететь,На труды наши воззреть?А вы голубиА вы сизые? –басил в разноголосицу мужской хор.
– Мы не голуби,Мы не сизые! –пронзительно визжал хор женский.
– А вы лебеди,А вы белые!– Мы не лебеди,Мы не белые!И все вместе:
– А мы ангелы,Мы архангелы,Христовой землиПосланнички…Завертелась Аксиньюшка, а за нею и все бабы. Радели «углом». Делились по углам на кучки и потом перебегали наискось из угла в угол, стараясь не столкнуться с встречной кучкой. Радели «крестом» – образуя фигуру креста, быстро вращающегося около неподвижного центра: в нем стоял Филат Гаврилович, отдыхая от своей бешеной пляски. Отдохнул и схватился с Аксиньюшкой за руки. Они закружились по горнице вдвоем, – точно вальс танцевали. Венец Аксиньюшкин в быстром вращении молнией голову пророчицы опоясал. Десятки пар им последовали. Радение стало похожим на бал привидений.
Все это были лишь подготовительные обряды. «Святой круг» еще не открывался, хотя уже одного таевца среди прыжков и кривлянья хватила падучка, а иные валялись по лавкам в полном изнеможении. Сноровка вертеться на пятке не всякому дается сразу. Новичков увлекали в пляску опытные. Тех, кто плохо успевал в искусстве кружения, преследовали насмешками, бранью, поталкивали и даже могли бы поколотить, если бы Аксиньюшка и кормщик не прекращали своими окриками ссоры и нестроение.
Высоко поднимая белое полотенце, закинув назад голову, Аксиньюшка визгливо затянула:
Рай ты мой, рай,Пресветлый мой рай!..Толпа дружно подхватила:
Во тебе, во рае,Батюшка родимый,Красное солнышкоВесело ходит,Рай освещает,Бочку выкатает…Бочка ты, бочка,Серебрена бочка,На тебе, на бочке,Обручья златые,Во тебе, во бочке,Духовное пиво.Станемте мы, други,Бочку расчинати,Пиво распивати,Авось наш надежаДо нас умилится,Во сердца во нашиОн, свет, преселится.Радельщики стали в четыре ряда: первый и третий образовали мужчины; второй и четвертый – женщины. Сильно топоча, они, как ошалевший конский табун, принялись бегать взад и вперед по избе. Все – в ногу. Задние мерно ударяли передних полотенцами по плечам. Самые усердные завязывали в полотенца ключи, нарочно припасенные заранее камни, тяжелые старинные пятаки и гривны. Сквозь нескладное пение и восторженные крики стали прорываться болезненные взвизгиванья. У иных на плечах проступила кровь. Толпа шалела. Все перемешалось в ее разноголосом шуме – изба стонала точно одною грудью, как разъяренный раненый зверь. Вдоволь набегавшись и нахлеставшись, радельщики пошвыряли полотенца под люстру и, схватившись руками, образовали круговую цепь.
– Духа, духа! – вопили мужчины.
Филат Гаврилович с мокрою бородою и волосами, повисшими, как у утопленника, кричал осиплым и надорванным голосом:
– Затирай духовное пиво!.. Чтоб разымчивее было! Плоти тяжко – душе легче! Помните, братики любезные: кто напоит потом землю на три аршина под собою, тому все грехи простятся.
Новую песню мы запоем,На брак к свету мы пойдем.Как на браке, на юдейском,Там был конь галилейской,И Христос с нами там был,С воды вино превратил,Кто этого вина напьется,В том дух святой завьется!Опьянение толкотни все возрастало. Цепь кружилась, как живой волчок. Две-три женщины давно уже потеряли чувство. Но соседи, не замечая их обморока, продолжали вертеть бесчувственные тела, тяжело колотившиеся ногами о пол. Бабы в визгах и икотах рвали на себе рубахи и, нагие до пояса, повисали на руках подруг, предоставляя цепи влачить себя, колотясь по полу окровавленными грудями. То и дело их разбитые волосы попадали под ноги, оставляя на полу кусты вырванных прядей. Они ничего не чувствовали. На них было страшно смотреть. Таевский богатырский народ, такой красивый и здоровый в обычное время, теперь казался сборищем пьяниц, отравленных полынной водкой. Зеленые лица с провалившимися глазами, обтянутые скулы, усеянные градом потных капель, потускневшие тела, испещренные синяками и царапинами… Наконец «дух», призываемый диким шабашем, «накатил», послушницы одна за другой повалились в истерических спазмах, бормоча восторженную нескладицу. Хохот, рыдания, животные крики, брань и гимны, вырвавшиеся из уст истеричек, мешались с дикими воплями:
– Эй! Эо! Эй – эван! Эван – эвое!
Разноголосица шла чудовищная. В то время, как одни вопили на песенный распев духовные стихи, других, обеспамятелых, распевы песен давно сбили с толка, и они сами не замечали, как в бессмысленном экстазе жаркими молитвенными голосами выкрикивают совсем не «о духе», но о том, как
Ходил, блудил казак по долине,Приблудился казак ко дивчине.– Дивчина, пусти ночевати…– Евга! Евга! Эй-ян!Ева! Адам! Ева! Адам!Евга! Евга! Эван! Эвое!– Как Адам с ЕвойПо раю гуляли,Ева Адама смутила,Во грех Адама вводила…«Накатило» и на Аксиньюшку.
– Ой, дух! ой, дух! – раздался ее нечеловеческий вопль, и она вырвалась из цепи, которая тотчас же распалась… Таевцы бросились к скамьям и попадали на них, готовые в любопытном напряжении слушать «живое слово трубы небесной». Многие упали на колени.
Самый опытный и наблюдательный психиатр не решил бы, глядя на Аксиньюшку, где в ней кончается шарлатанство и начинается действительный экстаз – неизбежный плод нервного потрясения, пережитого ею вместе со всею толпою. В разорванной одежде, вытянув прямо над головою, как два полена, толстые руки с неподвижно растопыренными пальцами, Аксиньюшка грянулась навзничь на кучи полотенец. Полузакрытые глаза ее стали похожи на две свинцовые точки; на помертвелых губах выступила полоска пены. Потом ее стало подкидывать. Было непонятно, откуда берется сила, сотрясающая это тяжелое, тучное тело, казалось бы, наперекор всем законам равновесия. Держась на полу только одними ступнями, пророчица, – прямая и неподвижная, как труп, – поднималась почти на половину своего роста и, точно подстреленная, падала на плечи. То верхняя, то нижняя часть ее тела взмахивала в воздухе, подобно коромыслу над колодцем. Брильянты на голове припадочной тряслись и сыпали искры. Таевцы с благоговением наблюдали эти таинственные проявления. Никогда еще матушка Аксиньюшка не утешала их таким тяжелым припадком. Это предвещало могучее наитие духа и необычайно важные откровения. Пророчица метнулась вверх прямым, быстрым скачком рыбы, блеснувшей над водою, и, тяжело шлепнувшись на пол руками, выгнулась дугою. Теперь она касалась до земли только пятками и теменем головы. Тело ее образовало как бы арку, вдоль которой, едва касаясь пола, беспомощно висели руки. На одном из первых радений Аксиньюшки кто-то из сомневающихся втихомолку впустил в плечо пророчицы большую сапожную иглу, но Аксиньюшка даже не почувствовала укола, и кровь не пошла из раны, – точно было ткнуто не в тело, а в пробку. Заболело лишь после того, как дух сошел с избранницы своей. Наконец Аксиньюшка обессилела. Теперь она спокойно лежала на полу, в дремоте, вся сразу покрывшись обильным потом. Это продолжалось около получаса, и все время никто в сборище не смел шевельнуться, сказать слово, высморкаться или кашлянуть. Мертвая тишь, духота. Седой, удушливый пар переливается в горнице, и сквозь его пелену тускло светят цветные огоньки люстры.
Аксиньюшка пошевелилась, тяжело вздохнула и села. Глаза ее мутно блуждали по собранию. Черные космы мокрых, разбитых волос висели из-под бриллиантов. Из тяжело вздымавшейся груди вырывался лающий и порою переходящий в завыванье нечеловеческий голос, ничего общего не имеющий с природным голосом Аксиньюшки. Казалось, из нее говорил кто-то другой, в нее вселившийся.
– Горе тебе, грешному Таю… не все тебе веселиться – бедой тебя испытаю… вырву из тебя слугу верного, нелицемерного… отдам твою потерю лютому зверю, на лесном пути, и костей не найти… на земле ему конец да на небе венец.
И запела диким голосом:
Идет царь в пустыни,В дальние эсаулы,За ним грядут его люди;Подкрепитесь, мои люди!Вам того не стерпети:Уж и там леса темные,Как во тех во лесахЗвери лютые,О, лютые, лютые,Вельми страшные!Таевцы, слушая зловещие слова пророчицы, переглядывались в смущении и страхе. Смысл был слишком ясен. Да и не редкое это было дело для таевца – «пропасть на лесном пути, и костей не найти». И не в первый раз на радениях раздавались о том откровения, слишком верно оправдываемые трущобною действительностью. Стали считать, вся ли паства в сборе. Не нашлось только Михаилы Давыдка да Василия Гайтанчика.
– Стало быть, на них это указание… кого же из двух заел дикий зверь? – приступил к Аксиньюшке Филат Гаврилович. – Матушка, не откажи, просвети!
– Кого Бог спас, тот у вас, – выла пророчица, – кому пропасть – медвежья пасть…
– На Михаилу, беспременно на Михаилу надо думать, он медвежатник-то; и сейчас в лабазе сидит, – шептали бабы, поглядывая на Зину и Консту. Они присутствовали на радении с самого начала, но старались держаться подальше от «святого круга», участвуя в бесновании лишь изредка и для виду, чтобы не быть вовсе чужими и не потерпеть оскорблений. Так как их считали еще не вовсе принятыми в корабль, а лишь полупросвещенными, то это не производило на верующих странного впечатления. Напротив, фанатики могли только быть довольны такою скромностью: люди, еще не просвещенные духом, вступая в святой круг, могут отвратить духа и от истино верных. Впрочем, Конста не мог бы кружиться, если бы даже силою заставляли. На нем лица не было. Он был совершенно измучен. Страшно измял его Гайтанчик в предсмертной своей борьбе. Пришлось завязать горло платком, чтобы скрыть синяки. Из глотки вместо голоса сип какой-то вырывался. После убийства – вот уже вторые сутки к концу – не пришлось Консте отдохнуть ни душою, ни телом. И вчера, и сегодня мотался он с ружьем по лесу разыскивая Михаилу, чтобы осведомить его обо всем, что в его отсутствие произошло, и условиться, как им стоять теперь друг за друга и быть дальше. А Михайло, как нарочно, перенес лабаз свой к другому яру, и найти его Консте было не легче, чем лешего.
Слыша, как женщины толкуют слова матушки, Зина всплеснула руками и заревела во весь голос по дяденьке Михаиле, а Конста с ожесточением схватился за затылок. Таевцы утешали их.
– Вы не убивайтесь, а радуйтесь. Телом умер – душой воскрес. Что тело-то жалеть? Тело – Марфа, а душа – Мария. Марфа – в землю: она презрительная, а благословенная Мария – голубкою в небеса…
Но в самый разгар этих сетований и утешений, хлопнула дверь и на пороге показался Михайло. По здоровому, цветущему лицу его было видно, что и Марфу свою, и Марию он сохраняет в полной неприкосновенности. Толпа ахнула.
– Здорово живете, – уставно поклонился Михайло святому кругу.
– Слава Богу, – неясным ропотом последовал уставный же ответ.
– Живы ли? Здоровы ли себе?
– Живы, слава Богу. Как тебе Бог помогал?
– Благодарение Богу. Бог милости прислал.
– Спаси Господи!
– Милость и истина встретошася.
– Правда с миром облобызашася.
Михаилу окружили, как чудо некое. Радение оборвалось. Михайло тоже удивленно вытаращил свои добродушные круглые глаза.
– Что у вас тут такое? отчего так глядите на меня?
– Михайлушка… живой! – еле вымолвил Филат Гаврилович, – и не съел тебя медведь лютый?
– Нет… зачем? – по-прежнему недоумевая, возразил Михайло. – Сам я, точно, свалил – и не одного, а целую парочку. Не слыхать вам, знать, было выстрелов-то? Признаться, за народом и пришел, чтобы пошли с огнями, помогли перетащить, пока волки не разорвали туши.
– Ну, слава Господу! Матушка здесь выкликала, что кто-то из нашей паствы должен скончать свою жизнь от зверя… А как только тебя да Васильюшки Гайтанчика нет в собрании, мы было и стали думать на тебя.
Михайло нахмурился и повел быстрым взглядом по собранию. В ответ ему блеснул странный взгляд из-под полузакрытых ресниц отдыхающей Аксиньюшки.
Он покачал головой.
– А давно Гайтанчик в лесу? – спросил он.
– Четвертого дня он вернулся из города, а позавчерась задумал идти с ружьем в лес. Видели, как он под вечер пришел на свое гумно… а ворочался ли, нет ли, – того не знаем.
Михайло широко перекрестился.
– Ну, ребята, стало быть, так тому и быть… Молите Бога за его грешную душу! Понимаю теперь, зачем медведи так долго не шли к моему лабазу! Сижу я позавчерась на лабазе, стерегу… вдруг кто-то как завопит – ровно с живого дерут кожу: инда у меня руки-ноги затряслись! Филин, что ли? Нет. Завопил, пожалуй бы, и человеческим голосом, да уж больно дико и жутко. Думаю: слезть нешто? пойти на помощь? Опять же – откуда быть тут человеку возле Тая-то, в нашей глуши? таевцы, я чай, давно с курями, спят по палатям… Если же кто из мирских ненароком с воли забрел, туда ему и дорога!.. А крик опять, да еще страшнее… и в третий раз. Взяла меня жалость. Решил: была не была, спущусь, посмотрю, какое там лихо… да вдруг – стук мне в голову, – а ну, как это морочит леший? Нарочно жалостит: поди в темноту, да и попади в бучило либо Мишке прямо в зубы. Подумал я, поболтал ногами и опять убрал их на лабаз… А тот-то, незнакомый, покричал еще, постонал – и ослаб, затих… На гумне, говорите вы, в последний раз видали Гайтанчика?
– Не то что на гумне, – нерешительно отозвался кто-то из толпы, – а вроде как бы туда он шел.
– Ну, а рев этот, что я слышал с лабаза, доходил от болота.
– Так надо думать, – сказал Филат Гаврилович, – что пошел Васильюшка через трясину по жердочкам да и наткнулся впотьмах на Мишку… Правда, они в ту сторону об эту пору часто заходят. Завтра всем поселком выйдем искать Васильюшку.
Один из послушников возразил:
– Пожалуй, что и без Мишки дело обошлось, – просто сорвался с жердочек в трясину и шабаш. И ежели так было, где уж его теперь найти! Разве что все болото до дна лопатами расшвырять. Трясина и курицу на сажень засасывает, а не то что человечьи кости.
– Нет, я так полагаю, – с редким самообладанием просипел Конста, – что будет толк или нет, а поискать надо. Первое дело: ежели матушка духом прорекла, что Гайтанчика растерзали звери, стало быть, нечего о трясине и поминать; не трясина его сгубила, а медвежьи зубы. Опять же и дядя Михайло на зверя думает, а не на трясину.
– Я больше потому так полагаю, – объяснил Давыдов – что медведи не приходили в ту ночь на падаль под лабаз, – значит, сыты были, жрали его – Гайтанчика-то… А сейчас, как всю человечину слопали, проголодались и пришли в паре, да матерые такие… сам лесной боярин с боярыней… Я их и положил в два выстрела рядышком.
Так на том и порешили, что Василий Осипович сделался жертвою лютых зверей. Взвыла по Гайтанчику сионская горница:
По лесам, лесам высоконьким,По кустикам по зелененьким,Там убит-лежит добрый молодец,Васильюшка свет-Осипович,Принакрыт-то он елочкой,Привален-то он можжевельничком,Зеленая травушка вкруг пожелкла,Алые цветики облетели,Клюква-ягода погоркла…Поиски по лесу, разумеется, ни к чему не привели. Потужили о Гайтанчике таевцы, помолились о нем и стали думать, кого бы поумнее да потолковее приспособить вместо него в посредники между миром и лесною трущобою. Аксиньюшка, столковавшись с Филатом Гавриловичем, ловко направила выбор на Консту, и в конце апреля Михайло Давыдок проводил Консту с Зиною до лесной опушки.
В скором времени – на границе лесного моря, облегавшего Тай, и волжского бечевника, верстах в двадцати пяти от гайтанчикова городка, заарендовал у обедневшего мелкопоместного дворянина землю и усадьбу незнакомый местным жителям, наезжий из Коломны мещанин Анисим Воробьев с молодой женой Прасковьей. Усадебка стояла как раз на распутье двух больших торговых дорог; неподалеку были две богатые волжские пристани. Анисим открыл постоялый двор и стал принимать к себе гостей и с обеих дорог, и с людного волжского бечевника. Слава о тароватом хозяине и приветливой красивой хозяйке, вместе с возчиками и бурлаками, далеко разошлась по Поволжью.
IXПробежало полтора года.
На постоялом дворе было, сверх обыкновения, нелюдно. Прасол из ближнего – верст за двадцать – города благодушествовал на чистой половине, за пузатым самоваром, калякая с хозяином. Молодая хозяйка, сидя поодаль, нянчила ребенка. Со двора доносились звонки и бубенцы Прасоловых коней, которых перепрягал кучерок. Управившись с лошадьми, он вошел в избу, стал у порога и молча поклонился.
– Что надо? – окрикнул прасол, вскидывая на него не слишком суровые глаза.
Он был малый веселый и покладистый.
– Кабы, Трофим Петрович, того…
– Чего «того»? – передразнил прасол, – водки просить пришел, ненасыть?
– Точно… ежели бы самую малость…
– Ни-ни! и то в три кабака заворачивал. А дело к ночи: как ты меня повезешь, наливши глаза?
– Трофим Петрович! ваше степенство! дозволь докладать: Бог милостив, – теперича месячно, и дорога битая – видать ее, как серебро.
– Чудак-человек! сам же ты говорил, что впервой поедешь здешней дорогой, худо ее знаешь.
– Да что ее знать-то, ваше степенство? Дорога, – известно, как дорога. Не мудрей других. А водочки, за ваше здоровье, прикажите поднести. Потому без нее – Господи Боже мой! – по заре зябко, от реки тянет, по перелесью подсвистывает.
– Вишь, зябкий… Ништо, Анисим Сергеич, поднеси уж ему, – разрешил прасол.
– Ступай, любезный, в черную, – приказал хозяин, не оборачиваясь к кучеру, – там тебе нальют. Прасковья, отпусти.
Молодая женщина встала со скамьи и вместе с мужиком вышла из избы.
– Новый у вас кучерок-от? – спрашивал хозяин прасола.
– Новый. Второй месяц, как взят. Ничего, парень хороший. Вином только зашибает иной раз. Ну да все по этой дорожке бегаем.
– Здешний?
– Не здешний, из дальних. С Унжи. Про Волкояр – князя Александра Юрьевича Радунского имение – слыхал?
– Как не слыхать?.. – протяжно молвил хозяин, поспешно ставя блюдце на стол, потому что оно задрожало у него на пятерне, обварив горячим чаем. – Это – которого еще, не к ночи будь сказано, величают «Чертушкой на Унже»?
– Вот-вот… И дочка евоная, от мучительства отцовского, не то сбежала с полюбовником, не то утопилась…
– Тс-с-с! ска-а-жи, пожалуй!
Дворник с участием покачал головой.
Между тем в черной избе возница вел такой разговор с хозяйкой, пока она цедила ему водку:
– Гляжу я на тебя, красавица моя, и ровно бы я тебя где видывал.
– Мудреного нету. На юру живем, на людях. Не прячемся, – гляди, кто хочет. За посмотр денег не берем.
– В том-то и закавыка, что я впервой в ваших местах, а тебя видал. Ты из каких породою будешь?
– Муж с-под Коломны, а я володимирска.
– Не бывал я там, не случалось… А знать тебя – лопни мои глаза – знаю…
– Может, похожую какую с лица…
– Нет, хозяюшка, крали такие не часто на свете родятся. Тебя видал. Только – где, хоть убей, не припомню.
– Ну, пей, пей, – нетерпеливо торопила хозяйка. – Растабарывать с тобой, парень, мне неколи… За постой ныне деньги платят, а за беседу – рублики.
Прасол двинулся в дорогу. Хозяин и хозяйка с поклонами провожали его на крыльцо. Яркий месячный свет упал налицо дворника. Возница прасола пристально вгляделся в «коломенского мещанина», а тот, заметив его взгляд, поспешил отступить в темноту. Однако он слышал, как кучерок потихоньку засвистал – будто лошадям… «Э-ге-ге! вот оно что!» – сказывал этот свист. «Коломенского мещанина» передернуло. Укладка прасола загрохотала по твердой битой дороге.
Версты две путники ехали молча. Потом возница обернулся к прасолу:
– Дозвольте спросить, Трофим Петрович: вы этого Анисима давно знаете?
– Нет, не очень давно. Как люди, так и я. Он на тракту человек новый. Год с небольшим, как объявился.
– Ну, стало быть, так оно и есть, – решительно воскликнул возница и, в волнении, чуть не уронил вожжи. – Узнал дружка! И не Анисим он, и не с-под Коломны, Трофим Петрович.
– Что ты врешь? чай он паспорт имеет, начальству известен.
– Что паспорт? Паспорт – не указ. Паспорт и украсть можно, и самому написать, кто умеет. Я его Трофим Петрович, знаю, и хозяйку его признал… Володимирска, говорит… Хитра тоже. Ведь это они, Трофим Петрович.
– Кто они, жернов мельничный?
– Слыхали, как у нас из Волкояра княжна сбежала? Ну вот она самая и есть – хозяйка Анисимова. А он-Конста, паренек тот заблудящий, что вместе с нею пропал… Ее-то я не сразу признал, потому что одежа личность изменила, а его – так мне месяцем и осветило. Тут, как угадал я его, то и о ней пришел в понятие.
Прасол захохотал.
– Ты бы, Ефрем, хоть языка пожалел, – много трепать его будешь, так и отвалится. Статочное ли дело – искать княжон по постоялым дворам?
– Батюшка, Трофим Петрович, присягу могу принять, что они.
Зина и Конста по отъезде прасола были в большом затруднении. Их узнали уже в третий раз за полтора года их удачливого хозяйства, и – главное – сам Конста признал в вознице прасола Ефремку, продувного парня, которого волкоярский управляющей Муфтель в последнее время держал при себе на посылках. Признавшие волкоярских беглецов в первые разы были из простецов: Конста легко заговорил им зубы, так что они сами над собой посмеялись: как это угораздило их принять солидного рыжебородого дворника за недавнего парнишку из волкоярской дворни? Но Ефремку Конста знал не за такого человека, чтобы его было легко одурачить.
– Он, подлец, этого так не оставит, – волновался Конста. – Он жадный, да и голова у него на плечах – не капустный кочан. Сообразит, что дело пахнет поживою. Станет с нас тянуть деньги. Мужик наглый – выдоит нас в лучшем виде. А потом – я таких хамов насквозь знаю: чуть почуял за собою силу и власть, сейчас и зазнался, и начал ломаться да охальничать. И придется расправляться с ним не хуже, чем с Гайтанчиком.
– Уж от этого избави Бог! – открещивалась Зина. Конста сходил в Тай посоветоваться с Матреной.
– Охота вам с этим постоялым двором путаться? – сказала пророчица. – Благо выпустили вас таевцы, шли бы, куда глаза глядят: дорога на все четыре стороны. Волга – рядом. А на гайтанчикову справу и без вас найдется человек… И таевцы не обидятся. Скажу, что бежали вы от гонения иродова, – еще страдальцами вас почитать станут. Ну, а если уж сразу сейчас нагрянет начальство с обыском, – бегите в лес да в Тай. Переждете здесь, пока уляжется беда, а потом ступайте, куца хотите!
Вскоре после того, как прасол Трофим Петрович гостил на постоялом дворе коломенского мещанина Анисима, – кучерок Ефрем надумался, что как-никак, а встречу с волкоярскими беглецами пропустить без пользы не след. Хозяину его снова случилось быть поблизости тех мест, на большой сельской ярмарке. Ефрем отпросился у прасола на несколько часов в гости и ударился к постоялому двору – в намерении поговорить с Констою начистую и взять с него, что можно, за молчание.