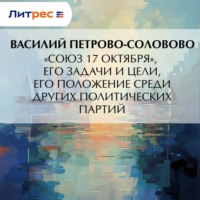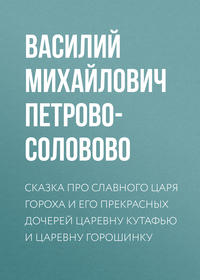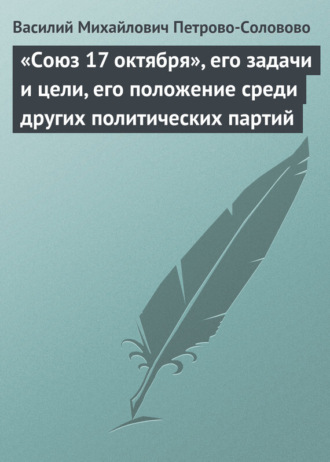 полная версия
полная версия«Союз 17 октября», его задачи и цели, его положение среди других политических партий

Василий Петрово-Соловово
«Союз 17 октября», его задачи и цели, его положение среди других политических партий
Речь В. Петрово-Соловово. произнесенная 30-го декабря 1905 года на общем Собрании Тамбовского Отделения «Союза».
Мм. Г-ни, Мм. Гг.
Россия гибнет. Россия возрождается к новой жизни. Россия неудержимо стремится в пропасть. Россия мучительно переживает необходимый в её истории кризис. Вот слова, которые за последнее время приходится слышать отовсюду. Они произносятся в частных беседах, они звучат с профессорской и церковной кафедры и с трибуны народного оратора. И в том же противоречии между собою, как и эти слова, находятся и те способы и средства, которыми каждый старается уврачевать охвативший наше отечество недуг. В том, что совершается на наших глазах, в чем мы сами являемся и деятелями и жертвами, одни видят только естественный и вполне исторически-законный переход от одних государственных форм к другим, тот переход, который в свое время совершили народы запада. Другие усматривают в текущих явлениях общественной и государственной жизни зарю новой, еще ни одним народом непережитой поры, «тень грядущих событий», начало нового светлого будущего. Третьи, наконец, всеми силами стараются доказать и себе и другим, что совершающиеся события не указывают ни на какой радикальный переворот, что основные устои русской государственности могут и должны остаться неизменными, но что требуется только освободить ее от несвязанных с нею органически, а постепенно образовавшихся придатков, и что тогда весь государственный организм огромной страны придет в состояние спокойствия и равновесия. Они думают, что стоит только вставить несколько новых спиц в колеса старой колесницы, подновить облупившуюся от времени окраску, и ее можно пустить катиться по тряской дороге истории на многие годы и, быть может, и многие десятилетия. Одни устремляют свой взор вперед, стараясь проникнуть им сквозь завесу будущего, и ищут разрешение назревших и наболевших вопросов в теоретическом построении еще никем неиспытанного социального государства, другие из воспоминаний далекого прошлого, эпохи земских соборов и самодержавия Московских царей, создают себе идеалы для будущего устройства русского государства. Между этими крайними направлениями общественной мысли широкой струей проходит среднее течение. К нему примыкают все те, кто одинаково далек от желания сделать, зажмуря глаза, скачок в неизвестное будущее и подвергнуть отечество опасному эксперименту социального переворота, так и те, кто не находит возможным в далеком прошедшем искать разрешения задачи ближайшего будущего. К нему примыкают все те, кто убежден, что русский народ по своему национальному характеру, своей культуре, своей религии, своему племенному составу сливается вместе с народами западной Европы в одну общую этнографическую семью, а потому и должен в аналогичных формах пройти те же самые ступени в своем историческом развитии. Из людей таких убеждений формируются при наступлении благоприятных условий конституционно-монархические политические партии, видное место среди которых принадлежит и «Союзу 17-го октября.» Моя задача будет состоять в том, чтобы охарактеризовать, хотя бы только в главных чертах, основные принципы этого союза, его стремления и цели, определить его место среди других политических партий и его отношение к ним.
Пользуясь парламентской терминологией, можно разделить все действующие у нас политические партии на три большие группы: партии левые, партии центра и партии правые. Оставляя в стороне анархистов, которые отрицают самую идею государства, мы видим на крайней левой партии чисто революционные, стремящиеся к полному низвержению существующего правительства и насильственным путем желающие установить новый государственный порядок. В их программы входит, таким образом, не только радикальное переустройство политического, но в большинстве случаев и экономического строя на социалистических началах. В их тактику входят как террористические акты против отдельных лиц, так равно и общее вооруженное восстание. Насколько далеко могут они зайти в этом направлении, показывают последние Московские события. Непосредственно за ними, считая слева направо, стоит партия конституционалистов-демократов. Она сложилась из существовавших несколько лет тому назад «Союза Освобождения» и «Союза земских конституционалистов». Партия эта не представляет из себя чего-либо вполне однородного. В ней есть и социалисты, есть и противники социализма, есть и монархисты, есть и убежденные республиканцы. И хотя эта партия и не ставит прямо боевой программы, но и недостаточно резко отмежевывается от чисто революционных организации для того, чтобы мы имели основание признать ее партией мира. Требование же Учредительного Собрания и полнейшая солидарность с политической забастовкой, как это было заявлено на съезде партий 12–18 октября настоящего года, указывают на в значительной мере выраженный революционный её характер. На организационном съезде конституционалистов-демократов в Москве член этой партии, профессор Милюков, в своей вступительной речи определенно называет партии, стоящие справа, своими противниками, а стоящие слева «желает назвать» союзниками. А то обстоятельство, что партия именно эту речь напечатала в виде введения к своей программе, дает полное основание заключить, что она солидарна во взглядах с бывш. Московск. профессором. Центр принадлежит целому ряду конституционно-монархических партий: «Торгово-промышленной», «партии правового порядка», «Прогрессивно-экономической», «Умеренно-прогрессивной», партии «Народного Блага» и наконец нашему «Союзу 17-го октября». Все они сходятся в главных политических и экономических принципах и разнятся или в второстепенных подробностях или даже только в различной формулировке одного и того же положения. Надо надеяться, что в самом непродолжительном времени все они, если и не сольются в одну общую организацию, то между ними будет заключен самый тесный союз и полное объединение электоральной тактики.
Наконец на правой стороне находится целая группа защитников самодержавного режима: «Партия Народного Центра», «Монархическая Партия», «Партия Русского Собрания» в Западном Крае (Вильне и Варшаве) и «Союз Русских Людей» или, как его иногда называют, «Союз Русского Народа». На крайней правой, подобно тому, как на крайней левой стоят реакционеры террористы (т. наз. черная сотня) которые желают насилием искоренить крамолу. «Союз Русских Людей», с которым мы всего чаще будем иметь дело, представляет из себя значительную по численности политическую партию. Она исключает из своей программы всякое переустройство русского государства на началах западно-европейских конституций и в манифесте 17-го октября видит не более, как изменение нынешнего самодержавного строя в смысле большего общения между Царем и народом. Самый же основной принцип самодержавия, неограниченность Царской власти, остается незыблемым.
Таково расположение отдельных инструментов того могучего оркестра, который в настоящее время исполняет грандиозный гимн обновления России, начиная от труб и литавр, беспощадно гремящих против старого режима, идо флейт и арф, мечтательно тоскующих о далеком добром старом времени мира, тишины и древнего благочестия. Мы должны попытаться определить нашу партитуру в этом концерте и установить те гармонические нити, которыми мы связаны с нашими соседями.
Что касается крайних революционных партий социал-революционеров, еврейского «бунда» анархистов, то наше отношение к ним ясно и просто. Ни цели, которые они себе ставят, ни способы, которыми они стремятся их осуществить, ни в каком случае не могут быть нашими целями и нашими способами. Мы должны признать все эти партии нашими самыми решительными противниками и бороться с ними и в выборной компании и в Думе со всею энергией, на которую мы только способны, и всеми теми средствами, которые мы признаем с нашей точки зрения допустимыми.
Гораздо сложнее наши отношения к другим политическим партиям, «конституционно-демократической», стоящей влево, и «Союзу Русских Людей», стоящей вправо от нас. Чтобы точно установить эти отношения, необходимо определить взгляд нашей партии на основные вопросы государственной и социальной политики и в то же время определить, как смотрят на те же самые вопросы наши противники и наши союзники.
Центральный пункт всякой внутренней политики есть государственный строй. То или иное решение этого вопроса прямо или косвенно предрешает и все вытекающие из него формы государственной и общественной жизни. Союз, к которому мы принадлежим, поставив себе знаменем манифест 17-го октября, тем самым определил свою политическую физиономию. Мы стремимся к конституционно-монархическому устройству русского государства с законодательной Думой, избираемой на началах всеобщего, но не прямого голосования и с наследственным монархом во главе. Монарх должен не только царствовать, но и управлять государством при посредстве ответственных перед государственной палатой, но им свободно назначаемых министров и на основании твердых законов, выработанных палатой и им утвержденных. Мы убеждены, что нынешнее самодержавие, составлявшее некогда живую творческую государственную силу, уже исполнило свою историческую миссию, потеряло жизнеспособность и подлежит поэтому полному упразднению, как пережиток старины, мешающий дальнейшему развитию политической, культурной и экономической жизни нашего отечества. «Прежний неограниченный самодержец, всемогущий по идее, – сказано в воззвании нашего союза, – но, связанный в действительности всеми путами приказного строя, слабый, вследствие отчужденности от него народа, становится конституционным Монархом, который, хотя и находит пределы своей воли в правах народного представительства, но в самом единении с народом, в союзе с землей, в новых условиях государственного строя, получает новую мощь и новую высокую задачу быть верховным вождем свободного народа. Являясь в народном сознании по-прежнему воплощением государственного единства, служа неразрывной связью преемственно сменяющихся поколений, священным стягом, вокруг которого в минуту грозной опасности собирается народ русский, монархическое начало отныне получает новую историческую миссию величайшей важности. Возвышаясь над бесчисленными местными и частными интересами, над односторонними целями различных классов, сословий, национальностей, партий, монархия именно при настоящих условиях призвана осуществить свое предназначение явиться умиротворяющим началом в той резкой борьбе, политической, национальной и социальной, для которой открывается ныне широкий простор провозглашением политической и гражданской свободы».
Я позволил себе привести эту длинную цитату из воззвания нашего «Союза» потому, что она с особой яркостью и силой отражает в себе наши чаяния, наши идеалы, словом, весь, если можно так выразиться, первый член нашего политического символа веры. Но если мы поставим себе вопрос, как же смотрит на этот краеугольный камень государственного строительства партия конституционалистов-демократов, то к удивлению нашему мы увидим, что ВТ; их программе пункт этот совершенно отсутствует. Как это ни странно, но несомненно, что в их партийной программе, разработанной настолько подробно, что в ней не упущены вопросы об условном осуждении, о способах употребления капиталов сберегательных касс, о размере платы за слушание лекций в университетах, совершенно проходится молчанием коренной вопрос: чем должна стать обновленная Россия, конституционной монархией, или республикой. Самые слова Император или Монарх ни разу не встречаются в программе конституционалистов-демократов, а определенные термины «империя» или «монархия» в отделе о государственном строе заменяются словом: государство, под которым можно разуметь любую политическую организацию. Хотя проф. Милюков и указывает в своей речи, что его партия не присоединяется к крайним левым в их требовании демократической республики, но, ведь, он и не указывает, каков же должен быть, по мнению партии, государственный строй обновленной России. Невозможно видеть в этом простой недосмотр или упущение. Следовательно остается допустить, что умолчание это сделано намеренно, что, предоставляя разрешение этого коренного вопроса учредительному собранию, к созванию которого конституционалисты-демократы стремятся, они ничего не имеют возразить против того, чтобы это собрание разрешило вопрос в смысле введения в России республиканской формы правления. Но в таком случае как же назвать эту партию? Ведь, не может же она не знать, что республика в России может быть введена не иначе, как путем насильственного подавления громадных, масс монархически настроенного населения. Поэтому, если почтенный профессор считает необходимым, как он это говорит в своей речи, разоблачить истинные приемы стоящих справа свих противников, то русский народ, к которому конституционалисты-демократы обращаются путем печатного и устного слова, с гораздо большим основанием может и должен предъявить им категорическое требование, чтобы они сами разоблачили перед ним свои истинные убеждения относительно государственного строя реорганизованного Российского государства. Это необходимо и для нашего «Союза», чтобы точно и определенно установить наше к ним отношение в этом коренном вопросе политики.
Совершенно иначе решает вопрос о государственном строе «Союз Русских Людей». Исходя, как и все прочие партии, из глубокого недовольства настоящим порядком вещей, который причинил и продолжает причинять России столько бед и зол, группируясь подобно нам вокруг манифеста 17-го октября, который они признают обязательным для себя актом Царской Воли, «Русские Люди» думают устранить зло и вывести государство на торную дорогу мирного культурного развития не решительным шагом вперед по пути коренных реформ государственного строя, а слабой попыткой возвращения назад вглубь русской истории, к тому порядку, когда несложность и простота экономического и социального быта допускала возможность для государственной власти обходиться помимо сложного бюрократического аппарата, в котором по их мнению только и заключается все зло и все наши беды. «Союз Русских Людей» на все лады, в устных беседах, в публичных чтениях па партийных собраниях, народных митингах, в газетных статьях и в великом множестве издаваемых им популярных брошюр, рассчитанных на широкий круг полуинтеллигентных и вовсе неинтеллигентных читателей, распространяет свои идеи. Мы можем их свести к следующим четырем основным положениям:
1. Самодержавие в России не отменяется, а только видоизменяется манифестом 17-го октября 1905 г.
2. Самодержавие само по себе в его, так сказать, чистом виде нисколько не служит тормозом для политического и культурного развития русского народа. Для восстановления этой чистой его формы необходимо только устранить образовавшуюся между Царем и народом бюрократическую стену, мешающую их постоянному и непрерывному единению. Это может быть достигнуто совещательными формами народного представительства.
3. Самодержавие может быть упразднено не единоличной волей Государя, а только коллективной волей всего народа и, наконец:
4. Самодержавие, точно так же, как и православие, составляет органическую сущность русского парода, от которого он не может отказаться, не утратив своего национального духа.
Постараемся разобраться в этих положениях и осветить их, как в их теоретическом построении, так и со стороны их исторического оправдания.
Размеры предоставленного мне времени не позволяют сделать это с той полнотой, как это было бы желательно, а потому я постараюсь ограничиться только самым существенным.
Что принципиально неограниченность царской власти на Руси отменена манифестом 17-го октября, это с очевидной ясностью обнаруживается из текста самого манифеста. Если не один закон не может восприять силу без его одобрения Государственной Думой, то это значит, что иного порядка осуществления законодательной власти нет и не может быть, и что самая Дума из законосовещательного учреждения, каким она предполагалась по закону 6-го августа, сохранявшего незыблемость основных законов Империи, другими словами, верховного самодержавия, становится по манифесту 17-го октября, по весьма понятной причине ничего не говорящему об этой незыблемости, учреждением законодательным, а таковым она может быть только при существовании конституционного строя, в данном случае ограниченной монархии. «Союз Русских Людей», по-видимому, вводится в заблуждение тем, что русский Император и после манифеста 17-го октября продолжает именоваться самодержавным. Но тут нет никакого противоречия. Фактически самодержавие продолжается и будет продолжаться до созвания Государственной Думы на началах манифеста 17-го октября и до издания нового основного закона Российской империи, т. е. конституционной хартии, которой будет раз навсегда отменена ст. 1 т. 1 Свода Законов. Поэтому нет ничего ненормального в том, что Император, как в манифестах, изданных после 17-го октября, так равно и в церковном богослужении продолжает именоваться самодержавным, и распоряжение одного из архиепископов, исключившего это слово из богослужебного обихода, мы никак не можем считать правильным.
«Союз Русских Людей» при всем отрицательном отношении к бюрократически-приказному строю все же считает не только возможным, но и весьма желательным сохранить в нашем отечестве верховное самодержавие. Односторонне усвоенные исторические факты указывают ему, что было время, когда при наличности самодержавного строя чиновничество имело гораздо меньшее значение, нежели в наши дни. Но тут или упускается или недостаточно оценивается коренное различие в политической и экономической жизни государства того времени и современного. В тот период нашей истории, когда не было ни аграрного вопроса, ибо при крайне редком и почти сплошь крепостном сельском населении и громадном обилии земли не было повода для его возникновения, ни рабочего вопроса, ибо на всей территории нашего отечества не существовало ни одной фабрики в нынешнем значении этого слова, ни вопросов образования, ибо светские школы отсутствовали, а монастырские и церковные находились вне ведения гражданских властей, ни международной политики в её нынешнем значении, так как иностранные сношения с варварской Московией носили скорее характер случайности, ни военного дела, которое составляло частную повинность наделенных землею служилых людей, обязанных по царскому зову являться со своими холопами, «конными людными и оружными», постоянного же войска в том виде, как оно существует теперь, не было вовсе, ни финансов, вместо которых существовала очень небогатая «Государева казна», – при таком состоянии государства не требовалось сложного бюрократического аппарата, и Московский Царь мог распоряжаться в государстве, как крупный помещик в своем имении. Но и этот период русской истории может представляться в радужном свете только при крайне одностороннем и пристрастном к нему отношении. А если мы заглянем поглубже в сущность реальных фактов, то перед нами восстанет яркая картина народного угнетения и чиновничьего произвола, и мы скоро убедимся, что и в Московский точно так же, как и в Петербургский период нашей истории верховная власть, несмотря на множество совещательных земских соборов не могла ни правильно попять народные нужды, ни еще менее, прийти им на помощь. В ярких красках рисуют это печальное положение иностранцы-путешественники, в особенности англичанин Флетчер, посетивший Москву и другие русские города в самом конце XVI века и описавший свое путешествие в известном сочинении «О Московском Государстве». Как бы ни изощрялись защитники неограниченной царской власти, но им никогда не удастся отыскать ту формулу, посредством которой можно было бы примирить непримиримое. Истинное единение между Монархом и народом может произойти только на почве политической свободы, из которой органически вытекают и все остальные свободы: слова, печати, собраний, союзов, а также гражданская и уголовная ответственность высших и низших чиновников перед общим и для всех равным судом. Это должны признать, наконец, защитники самодержавия, ибо это непреложный закон истории, и им остается одно из двух: или примириться со всеми беззакониями, неправдами и безнаказанностью произвола приказного строя, или, для устранения их, решиться на ограничение верховной власти. Tertium non datur! – «Союз Русских Людей» держится того мнения, что самодержавная власть в России не может быть уничтожена единоличной волею Самодержца, но только волею всего народа, из рук которого Самодержец принял эту власть. Тезис этот ничем не подкрепляется; между тем он очень нуждается в доказательствах и никак не может быть принят как аксиома. Прежде всего отметим внутреннее противоречие: если самодержавная власть встречает какое-либо ограничение, то тем самым, она уже перестает быть самодержавной. Мы думаем напротив, что если и согласиться с тем, что русский государь когда-либо принял власть из рук народа как сознательный и добровольный дар, чего на самом деле никогда не было, то он обладает всей полнотой права возвратить этот дар тому же народу, убедившись, что обязанности, сопряженные с этим даром, ему становятся, в силу изменившихся условий, уже непосильными. Так именно и поступил Император Николай II, издавши манифест 17-го октября. Но оставляя в стороне академический спор, обратимся к истории, которая не задает теоретических проблем государственного права, а решает спорные вопросы чисто практическим способом. Во всей всемирной истории не было примера, чтобы один государственный строй сменялся другим по добровольному соглашению монарха с народом, а всегда процесс этот совершался или медленным эволюционным путем или посредством острого революционного кризиса, вызванного целой совокупностью экономических, бытовых и иных условий народной жизни. Нет ровно никакого основания утверждать, что русская история представляет в этом отношении исключение, а скорее необходимо признать, что именно такой исторический процесс совершается на наших глазах. От верного его понимания и правильного к нему отношения будет зависеть, совершится ли он путем эволюции или революции. Но кажется приходится признать, что и в этом, как во многом другом, мы опоздали, так как революция уже началась.
Последняя крепость, в которой сторонники самодержавия и во главе их «Союз Русских Людей» пытаются защищаться от нападений конституционалистов, поднимает знамя национальной самобытности русского народа, которому будто бы до такой степени несвойственны западно-европейские государственные формы, что он ни в каком случае не может их воспринять. Самодержавие и православие, так проповедует «Союз Русских Людей», составляют органическую принадлежность русского народа, утратив которую он неизбежно утратит и всю свою национальную физиономию, а этого он никогда и ни за что не согласится сделать. Что касается православия, то существование многочисленных религиозных сект чисто рационалистического характера, ничего общего не имеющих с православием, и широкое их распространение могли бы навести на основательные сомнения в верности этого положения, но касаться этого вопроса не входит в мою задачу. Крупная ошибка сторонников самодержавного строя состоит в том, что конституционные формы, взятые сами по себе, представляются им чем-то специфически-чуждым русскому народу. Между тем в этих формах так же мало национального, как в паре или электричестве. Ведь, на самом деле, они суть нечто иное, как общие нормы, в которые каждый народ укладывает свое специальное содержание, являющееся результатом его исторической жизни. То же самое в ближайшем будущем предстоит русскому народу. Что самодержавие сыграло громадную роль в создании русского государства, не подлежит никакому сомнению, что оно утвердилось в России прочнее, чем где-либо, этому причина совокупность целого ряда экономических, этнографических, бытовых и географических условий, рассматривать которые здесь не место и не время. Но из этого никак не следует, чтобы самодержавие, вопреки мировому закону жизни, состоящей из постоянной смены одних форм и явлений другими, было чем-то стоящим вне категорий пространства и времени: вечным, незыблемым, неизменным. Не мешает помнить, что такие убеждения в известных случаях могут быть и не безопасны. Если Фридрих-Вильгельм IV Прусский поплатился за них только ужасом мартовских дней, то Карл I Английский и Людовик XVI Французский заплатили за них жизнью. Попытки ограничения царской власти проходят через всю русскую историю XVII, XVIII и XIX в.в. Стоит вспомнить царствование Василия Шуйского, «кондиции», предложенные Анне Ивановне, проект конституции Сперанского при Александре I, революционное движение декабристов, чтобы убедиться что конституционные начала вовсе не так чужды русскому народу, как это желают доказать сторонники неограниченной монархии. И, наконец, тот самый царь, Михаил Федорович, на которого так любят ссылаться защитники самодержавия как на типичного носителя этого великого, в их глазах, принципа неограниченной власти, врученной ему самим народом, в действительности был избран на известных, хотя и не вполне историей выясненных, ограничительных условиях и полным Самодержцем сделался только в 1025 г. т. е. после 12-ти лет царствования. Все реформы Александра II, в их совокупности, составляют нечто иное, как постепенное, систематическое, хотя и очень медленное строительство конституционного государства, которому до сего времени недоставало лишь окончательного завершения. Строящийся дом, остающийся долго без крыши, начинает портиться: стены выкрошиваются, деревянные части гниют и покрываются плесенью. То же самое происходит и в государственном строительстве: примером может служить наш суд и наше земство. Поэтому не о том следует жалеть, что самодержавному строю в России наступает конец, а о том, что он слишком долго существовал, что он пережил сам себя и из начала деятельного и созидательного обратился в тормоз развития национальных творческих сил. Отсюда сначала глухое, но затем все более и более обостряющееся недовольство всем порядком вещей, недовольство правительством, не желавшим считаться с тем, что русский народ давно перерос свои политические формы, отсюда глубокий разлад между народом и властью, последствия которого так тяжко сказываются в событиях последнего времени. Это прекрасно понимают все конституционные политические партии, а поэтому они так горячо и приветствуют манифест 17-го октября, проведение в жизнь которого, кроме всех ожидаемых от него благ, только и может создать необходимое для всякого государства сильное и опирающееся на народное доверие правительство. Не хочет понять этого только «Союз Русских Людей», и в этом его непонимании кроется между ним и конституционными партиями коренное разногласие, устранить которое было бы полезно для обеих сторон.