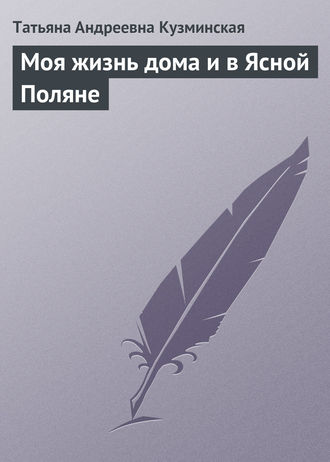 полная версия
полная версияМоя жизнь дома и в Ясной Поляне
– А мне было и досадно, и обидно, и завидно, – говорила она.
– Соня, да ведь она же настоящая музыкантша, – сказала я, – как же сравнить ее с тобой? Конечно, Левочке было приятно играть с ней. – Ну да, мне это-то и было неприятно, – говорила с досадой Соня. – Но вот кто удивительно приятен в доме, это тетенька Татьяна Александровна, она так добра и мила ко мне. С первых же дней моего приезда в Ясную она сдала мне все хозяйство, и я, с помощью экономки и в то же время горничной, Дуняши, принялась за хозяйство. При тетеньке живет приживалка Наталья Петровна, препотешная: рассказывает Левочке про всякие явления, слышанные ею от богомолок, а Левочка записывает их. Но всего больше я люблю наши вечерние занятия. Он учит меня по-английски, мы читаем вслух «Les Miserables» Victor Hugo[28], а иногда, когда он занят, я переписывала «Поликушку». Но знаешь, Таня, иногда мне наскучит быть «большой», раздражит меня эта тишина в доме, и нападет на меня неудержимая потребность веселья и движения, я прыгаю, бегаю, вспоминаю тебя, как мы с тобой бывало бесились, и ты называла это: «меня носит». А тетенька Татьяна Александровна добродушно смеется, глядя на меня, и говорит: «Осторожнее, тише, ma chere Sophie, pense a votre enfant»[29].
Так болтали мы с Соней, слушая рассказы о ее жизни. Уже подали самовар. За чайным столом собрались все домашние, и Соня продолжала весело болтать с нами.
– А что твое рисование, Соня? – спросила мама.
– Левочка хотел мне взять учителя, да мое нездоровье помеха всему. Я иногда так хочу жить дельно, – говорила Соня, – но не могу. Пробовала заняться молочным хозяйством, ходила на удой коров, но запах коровника вызывал во мне тошноту, и я не могла ходить. Левочка с таким недоумением смотрел на меня, ничего не понимая в этом; он даже выказывал неудовольствие.
Мама, не желая осуждать Льва Николаевича, улыбаясь, сказала:
– Да где же ему понять! А в школе ты помогала ему?
– Вначале да. У нас был съезд учителей для обсуждения школьных вопросов; иные учителя, как мне казалось, отнеслись ко мне враждебно, чувствуя, что Лев Николаевич уже не принадлежит им всецело, и многие даже совсем уехали. Да правду сказать, Левочка за последнее время совсем охладел к школе. Его тянет к другой работе. Он хотел писать 2-ю часть «Казаков» но, кажется, и это бросит. Задуманный роман о декабристах поглотил его всецело.
Так незаметно прошел вечер. Пробило 12 часов. Соня прислушивалась к звонку. Все домашние разошлись по своим комнатам, лишь мама и я остались с Соней.
Прошел еще час. Соня теряла терпение. Отец вернулся домой и прошел к себе в спальню. Я сидела в углу дивана и потихоньку дремала. Соня то и дело подбегала к окну и смотрела на часы.
– Да что же это в самом деле, – говорила Соня. – Что с ним? Уж не случилось ли чего?
– Что же может случиться? – утешала мама, – просто засиделся у Аксакова.
– Да, засиделся, – повторила с досадой Соня. – Вероятно, там эта Оболенская, ведь она там по субботам бывает.
– Полно, Сонечка, придумывать себе глупости, приляг и отдохни лучше. Он скоро приедет.
Соня молчала. Я сочувствовала ей, хотя и не говорила с ней. В комнате царила полная тишина. Пробило половина второго.
Этот бой, при полной ночной тишине, как молот, беспощадно ударил не только в сердце Сони, но и разогнал мгновенно мой сон.
Соня, как ужаленная, вскочила с места.
– Мама, я поеду домой, я не могу больше дожидаться его, – заговорила она, чуть не плача.
– Что ты? Что с тобой, Соня? Мыслимо ли это! Да он вот-вот приедет!
И, действительно, не успела мама договорить, как послышался звонок.
Соня живо подбежала к окну. У крыльца стоял пустой извозчик.
– Да, верно это он, – с волнением проговорила она.
В эту минуту скорыми шагами вошел Лев Николаевич.
При виде его напряженные нервы Сони не выдержали, и она, всхлипывая, как ребенок, залилась слезами.
Лев Николаевич растерялся, смутился; он, конечно, сразу понял, о чем она плакала. Чье отчаяние было больше, его или Сонино – не знаю. Он уговаривал ее, просил прощения, целуя руки.
– Душенька, милая, – говорил он, – успокойся. Я был у Аксакова, где встретил декабриста Завалишина; он так заинтересовал меня, что я и не заметил, как прошло время.
Простившись с ними, я ушла спать и уже из своей комнаты слышала, как в передней за ними захлопнулась дверь.
Праздники проходили. Отпуск Кузминского и брата кончился, и они уехали 5-го января.
Тоскливо заныло у меня сердце. Дом опустел. Я не принималась ни за какое дело и, как тень, бродила по дому.
Через десять дней уехали и Толстые. Они ехали в больших санях, на почтовых лошадях. Тогда еще не было железной дороги. И опять, как и после их свадьбы, мы все вышли провожать их на крыльцо.
«Зачем существует разлука? Зачем людям надо такое горе?» – с озлоблением и болью в сердце думала я.
– Теперь до весны не увижу вас, – сказала я со слезами на глазах.
Ямщик, подобрав вожжи, тронул лошадей.
– Ты прилетишь к нам с ласточками! – закричал мне Лев Николаевич.
Часть II
1863–1864
I. Дома
Наступила весна 1863 года, со всеми ее прелестями: животворная, теплая, все воскрешающая. Так и повеяло радостью, надеждой на что-то неведомое и жаждой жизни.
Мне памятны та весна и то лето. Надежды на что-то неведомое не обманули меня. Эти весна и лето принесли мне и счастье и горе…
В доме ничего не изменилось. Все шло своим чередом.
Отец и мать, постоянно занятые и озабоченные, производили на меня впечатление какой-то необходимой, вечно движущейся силы, без которой все бы пропало.
Лиза, по-видимому, забыла тяжелое прошлое. Пребывание Толстых в Москве повлияло на нее благотворно. Она стала спокойнее, веселее: недоброжелательное чувство к ним как будто заснуло в ней. Эта зима сблизила меня с ней. Она читала мне вслух, выезжала со мной, и когда в феврале нас, всех детей, поразила корь, она ходила за мной, как сиделка.
После отъезда Толстых из Москвы мы получили от них молодые, счастливые письма, тогда как в Москве Соня жаловалась мне, что московская жизнь как будто разъединяла их. Интересы раскололись, и она мало видела Льва Николаевича.
Я утешала ее, говоря, что это очень понятно, так как в Москве он принадлежал не ей одной, а и своим друзьям и знакомым, а у него их много.
– Да, я знаю, – говорила Соня, – тут ничего дурного нет, но, знаешь, мы так тесно живем в Ясной, что привыкаешь к постоянному общению, а тут это невольно кажется охлаждением.
Приведу несколько строк из ее письма ко мне от 13 февраля 1863 г.
«…Сегодня только уехали от нас Ольга и Софья Александровна.
Ольга мечтает, как ты приедешь, она, Саша Куз-минский и как вы будете верхом ездить, и как нам весело будет. Мы все это соображали вчера, когда катались с ней вдвоем тройкой в страшный ветер и мороз. Мой же писал дома статью в журнал.
Мы очень хорошо живем. Он все уверяет, что никогда в Москве он не мог меня так в четверть любить, как здесь. Отчего это, Татьяна? И вправду, как любит, ужас…»
В конце письма она пишет:
«Мы совсем делаемся помещиками: скотину закупаем, птиц, поросят, телят. Приедешь, все покажу. Пчел покупаем у Исленьевых. Меду – ешь не хочу. Я ужасно и Левочка мечтаем, как ты приедешь».
В другом письме (от 25 февраля) сестра пишет:
«Лева начал новый роман. Я так рада. Неужели „Казаки“ еще не вышли? От успеха их зависит, будет ли он продолжать вторую часть».
А в письме от 11 ноября 1862 г. сестра, между прочим, сообщает: «Девы, скажу вам по секрету, прошу не говорить: Левочка может быть нас опишет, когда ему будет 50 лет. Цыц, девы!»
Отец, читая это, смеясь сказал мне:
– Ну, Таня, берегись, тебе достанется от Льва Николаевича. Он таких вертушек, как ты – не любит!
– Я не вертушка, – обиженно сказала я, – я – живая.
Отец, видя, что я огорчилась, подозвал меня к себе.
– Я пошутил, а ты и поверила, – ласково сказал он. – Поди, поцелуй меня.
Ободренная его лаской, я вдруг решила поговорить с ним о своем давнишнем желании.
– Папа, – начала я, – ты говорил, что после праздников собираешься в Петербург. Возьми меня с собой. Я никогда не ездила по железной дороге, никогда не видала Петербурга. Ну, пожалуйста, возьми. Мама, наверное, отпустит меня, – молила я, целуя его.
Папа задумался.
– Увидим, – сказал он. – Я поговорю с мама.
II. Письма отца
Помню, что отец очень интересовался статьей «Воспитание и образование». Прочитав статью, он был и опечален и оскорблен ею. Несмотря на свою обширную деятельность, он уделял время на чтение, ценил науку и верил в нее.
Помню, как он с профессором Анке осуждал воззрения Льва Николаевича и его оскорбительные слова: «чтение лекций есть только забавный обряд, не имеющий никакого смысла, и в особенности забавный по важности, с которою он совершается».
В другом месте своей статьи Лев Николаевич пишет, что ему возражали на его нападения на профессоров и университеты, говоря: «вы забываете образовательное влияние университетов». На что Лев Николаевич отвечал: влияние, «которое называется образовательным и которое я называю развращающим влиянием университетов».
Затем он пишет: «так называемые люди университетского образования, развитые, то есть раздраженные, больные либералы». «Университет готовит не таких людей, каких нужно человечеству, а каких нужно испорченному обществу».
Прочитав эту статью и обсуждая ее со своим старым товарищем поуниверситету Николаем Богдановичем Анке, отец не мог найти правды в этих суждениях. Чувства его, помимо его воли, восставали против определения Льва Николаевича. Университет дал так много отцу – научное образование, товарищество, светлые воспоминания молодости. Иные профессора были и друзьями и учителями. И вдруг человек, столь любимый и уважаемый им, как Лев Николаевич, написал эту статью и как бы осквернил все его идеалы.
Но не он один был возмущен этой статьей. Мне памятно, как весь ученый мир восстал против Льва Николаевича.
Отец писал Льву Николаевичу 1 декабря 1862 г.:
«Читал я с большим вниманием оригинальную статью твою „Воспитание и образование“… Прочитавши ее, я пришел в страшное раздумье, мне грустно подумать об том, что это истина. Я привык смотреть на университет, как на светило и рассадник просвещения, а ты разочаровал меня. Нет, я не хочу верить тебе. Изустное слово имеет все-таки свою великую силу и служит поощрением к занятиям, подавно, если оно красноречиво и последовательно передается».
Отец долго после чтения этой статьи ходил как бы расстроенный. Он только и говорил о ней.
Мне было досадно на Льва Николаевича. «Зачем он пишет такой вздор», – думала я. «Всех восстанавливает против себя, и папа расстроил, и все чудит, оригинальничает… Намедни над оперой смеялся – кривлянием называл». И я сама собиралась написать письмо Льву Николаевичу насчет отца – так мне было жаль его.
Затем отец дает советы сестре насчет ее здоровья и пишет ответ Льву Николаевичу насчет его сна. Письмо Льва Николаевича не сохранилось.
«То, что ты слышал наяву или видел во сне, Лев Николаевич, величайшая истина: „аллопатия более вредна, чем полезна, потому что средства ее нарушают физиологические инстинкты“. Но об средствах, употребляемых разумными аллопатами, сказать этого нельзя.
Есть весьма много так называемых лекарств, которые мы находим в числе составных частей нашего организма и которые мы употребляем для водворения утраченного в нем равновесия. Эти средства делают тогда только вред, когда врач дает их без расчета, эмпирически, нерационально. Из этого можно заключить, что и самая пища может быть точно также вредна, как и аллопатические средства, если пища эта нарушает физиологические инстинкты. Как ты горячо обо всем думаешь и заботишься, мой невыразимый человек; не верю я тебе, чтобы в глазах жены твоей ты был безалаберный Л. Н. Не то она чувствует и пишет нам о тебе. Мне кажется, что ты сильно напрягаешь свою нервную систему твоей работой. Я понимаю, что это неизбежно, но мне жаль тебя, и я боюсь, чтобы это не повредило твоему здоровью».
Отец всегда интересовался всей жизнью Толстых, где мог, помогал Льву Николаевичу в его хозяйственных и литературных делах. Лев Николаевич писал ему, что школа его понемногу распадается, а Соня писала, как учителя, заразившись равнодушием (может быть, и временным) Льва Николаевича к педагогике и школе, разъезжались и как сам Лев Николаевич, увлекаясь хозяйством, не успевал один справляться с делами. На это отец отвечает:
«Покровское, 22 мая [1863 г.] вечер.
Любезный друг.
Давно уже, более 15 лет, знаю я одного отличного человека, который управлял имением у Шалашниковой, а теперь управляет делами и заводом у Вельяшова (зять Рюминых). Все, что перо мое может выразить хорошего об этом человеке, далеко не сравняется еще с его высокими достоинствами».
Дальше идет подробная характеристика рекомендуемого человека. В приписке к этому письму:
«23-го мая. Утро. Покровское.
Сейчас принес мне хлебник[30] из Москвы письмо твое от 19 мая, в котором ты пишешь мне, что твои длинноволосые студенты оставили тебя. Я сам, правду сказать, никогда не надеялся на них. Но вряд ли можешь ты справиться один с твоим хозяйством. Предложение мое насчет моего Федора Антоновича кажется кстати, – подумай хорошенько и решайся».
В следующем письме от 2 июня [1863 г.] отец снова пишет Льву Николаевичу:
«Жаль мне, что ты не решаешься взять управляющего, которого я тебе рекомендую. Я бы этого желал единственно потому только, чтобы ты имел помощника для твоих многосложных трудов и вместе с этим ты имел бы при себе верного человека. Может быть, и передумаешь, напиши, я буду тогда стараться его тебе добыть. Я не думаю, чтобы жалованье его превышало 300 или 400 р. Я очень хорошо понимаю, что при теперешнем порядке хозяйства требования владельца должны быть совсем другие, как прежде, и хлопот для управляющего также гораздо больше. Из этого следует, что не требования твои незаконны, но вас, помещиков, поставили относительно крестьян не в законное положение. Крестьяне могут вас обманывать и надувать, сколько им угодно, а вы ничего не можете с ними сделать. Равно и всякому управляющему очень трудно с ними сладить.
Авось со временем будет лучше, а теперь пока все нехорошо, и все жалуются…»
В письме от 13 октября 1863 г. отец пишет о книжках «Ясной Поляны»:
«Лучшая продажа твоих маленьких книжек происходит на Никольской под воротами, а не в лавках. Простой народ покупает их очень охотно, а в лавках идут они туго. Саша недавно отвез туда (т. е. под ворота) 60 экземпляров, и там просили адрес твоей конторы. Вот, кажется, все, что имел тебе написать. Прибавлю еще, что люблю тебя от всей души, обнимаю тебя крепко, и, несмотря на все твои пудели, считаю тебя очень достойным охотником, не имеющим только навыка стрелять. Походи два или три раза, сряду и тогда увидишь перемену. Кланяйся всем. Вероятно, вы в Туле теперь – пишите мне почаще, а лучше всего приезжайте скорее в Москву».
В другом письме (от 27 марта 1863 г.) отец пишет Льву Николаевичу о журнале «Ясная Поляна»: «Деньги, полученные тобою от подписчиков журнала на 1863 год, я все отправил сегодня обратно в одиннадцати пакетах по означенным адресам со вложением денег и записочки, в которой написал, что журнал не будет более издаваться. Итог той суммы, которую я разослал, составляет 76 р. 50 к., а не 73 р. 50 к. Отправка сверх этого стоила 3 р. 60 к. Очень рад, что оно исполнено; ты сам желал, чтобы деньги эти были немедленно отосланы. Очень рад также, что ты покончил с своим журналом; он стоил тебе много труда, столько же забот и был начетист карману». Промахи при стрельбе.
В 1863 году вышла в свет повесть «Казаки».
Лев Николаевич был в нерешительности, писать ли ему вторую часть. Он охладел к ней и задумывал уже другое, но все же с интересом прислушивался ко всяким отзывам. К сожалению, не помню, какие выходили критики, но знаю, что иные отзывы были восторженные, и повесть эту, казалось, читали все с большим интересом. Повесть «Поликушка», вышедшая почти одновременно, имела менее успеха, хотя иные считали ее выше «Казаков». Помню, как отец, прочитав «Казаков», написал в письме (от середины марта 1863 г.) к Соне свое мнение:
«Я прочел всю повесть „Казаки“, не взыщите, если буду излагать свое суждение откровенно. Может быть, оно ошибочно, но оно мое. Я ни с кем другим об ней не говорил и суждений об ней еще не слыхал. Все, что в ней описано, относящееся к природе, нравам казачьего быта и прочее – превосходно и интересно в высшей степени. Так хорошо описано, что живо представляешь себе всякое лицо, а уж о природе – и говорить нечего: описание станицы, окрестных ее лесов, реки и садов так живо впечатляется в воображении, как будто все это видел. Но – но эпизода с Марьяной как-то неинтересна и не оставляет никакого впечатления, да и нет в ней никакой последовательности. Автор хотел что-то выразить – да ничего и не выразил. Что-то недоконченное. Видно, мало времени пробыл в станице, не достало времени отдельно изучить какую-нибудь Марьяну, да и Бог знает, стоит ли она того, чтобы изучать ее с нравственной стороны. Я думаю, они все на один лад. Их нервная система совершенно соответственна их мускулам, и также неприступна к нежным и благородным чувствам, как и их горы. И невыгодное впечатление, которое произвела на меня повесть, относится только к самому концу, а то, читая ее, в начале и средине я был в полном восхищении».
Лев Николаевич оценил откровенность и искренность отца – это я помню, потому что я говорила матери: «Зачем папа пишет и критикует – это не надо!». Мать мне сказала по получении ответа Льва Николаевича: «Видишь, Таня, ты говорила, не надо писать откровенно, а Левочка поблагодарил папа за то, что он высказал ему свое мнение», а согласился ли Лев Николаевич с мнением отца – не знаю. Письмо не сохранено.
Интересны также суждения о «Казаках», передаваемые Кузминским в письме ко мне от 22 марта 1863 г. из Петербурга.
«На прошлой неделе я прочел „Казаки“. Я не сомневался ни одной минуты в том, что Оленин – это сам Лев Николаевич. Все встречи с Марьянкой, все письма – напомнили мне его.
Нашлись читатели, которые находили, что этот роман неприличен, и что его нельзя давать читать молодым девушкам, так как там встречаются сцены весьма легких нравов. Я спорил об этом и, конечно, доказывал противное. Откровенно говорю, что мне лично роман чрезвычайно понравился, потому что я очень симпатизирую его поэзии. Но все же скажу, что он никогда не будет иметь большого успеха. Например, находятся такие люди, которые говорят, что сюжет романа мало увлекателен для двухсот страниц (и они будут правы). Другие слишком мало развиты, чтобы понять эту высокую поэзию, и, наконец, третьи находят сюжет trop mauvais genre[31], чтобы его читать. Этих меньшинство!»[32].
В том же письме (от 27 марта 1863 г.), откуда я привела отрывок о журнале «Ясная Поляна», отец пишет о своем намерении в апреле побывать в Ясной:
«Я уже начал готовиться к поездке в Ясную: запасся чемоданом и делаю реестр всему, что придется с собой захватить. С большим удовольствием буду вместе с тобой, милая Соня, рассматривать и вникать во все твое хозяйство; бывало, и чужое меня интересовало, – можешь себе вообразить, как я полюбуюсь на твое. Не знаю, будешь ли ты в состоянии со мною ходить?»
Затем отец пишет о сказке, написанной мне Львом Николаевичем в одном из своих писем. Содержание сказки – рассказ о том, как жена внезапно превратилась в фарфоровую куклу.
Отец пишет об этом:
«Твой Лева написал такую фантастическую штуку Тане, что и немцу в голову не придет. Удивительно, как плодовито у него воображение, и в каких иногда странных формах оно у него разыгрывается. Умел же он об превращении женщины в фарфоровую куклу написать 8 страниц. Он напоминает мне Овида, известного римского писателя, который был, пожалуй, плодовитее твоего мужа, потому что написал целую книгу, которая переведена на немецкий и французский языки: „Les metamorphoses d'Ovide“ („Превращения“ Овидия). Он превратил даже в нарцисс юношу-красавца.
А проказник Могучий[33] не оставляет своей дурной привычки подхватывать; сделай милость – не езди на нем, а не дурно бы иногда промять его до Тулы в одиночку. Еще забыл тебе сообщить, что оттиски „Поликушки“ я также получил сегодня от Каткова и на днях перешлю их тебе по почте или с транспортом, вместе с оттисками „Казаков“. У меня утащили дети два или три экземпляра…»
III. В Петербурге
Святая неделя прошла для меня тихо. Кузминский ввиду трудных экзаменов не мог приехать в Москву. Я не очень горевала об этом. У меня было утешение – предстоящая поездка в Петербург была разрешена. Хотя от меня и скрывали, что отец берет меня с собой, вероятно, чтобы заранее не волновать меня, но Федора, моя милая Федора, видя мои печальные сомнения, под секретом сказала мне:
– Вы не горюйте, барышня. Мамаша приказали Прасковье переглядеть все ваши нарядные платья и дали выгладить ваш розовый пояс и сказали: «Второго мая в Петербург поедут». Мне это Прасковья сказала.
– Да неужели правда? – воскликнула я, от восторга целуя рябые щеки Федоры.
– Вы никому не сказывайте про то, что я вам сказала, – говорила Федора, – не то мне достанется.
– Нет, как же можно, и виду не покажу, что знаю, – говорила я.
«Я увижу, наконец, Петербург, – думала я, – увижу новых родных, увижу „его“ там, где он живет, откуда пишет мне, думает обо мне, любит меня! А Левочка? Соня? Они не знают, что я еду. Они были бы против этой поездки, ведь Левочка не любит Петербурга».
Хотя я и жила одной мыслью о поездке в Петербург, но все же мне было интересно знать, как Соня провела праздники. Я просила ее написать об этом.
У нас в семье эти пасхальные две недели считались самыми любимыми из всего года. Мы относились к страстной и святой с чувством религиозной поэзии. Все первые дни пасхи я думала о Соне и получила от нее письмо. Оно было грустно. Соня горевала о своих традиционных праздниках. Она писала мне:
«1863 г. 2 апреля.
Вот вздумала я написать тебе, милая Таня. Скучно мне было встречать праздник. Ты ведь понимаешь, всегда в праздник все больше чувствуешь. Вот я и почувствовала, что не с вами, мне и стало грустно. Не было у нас ни веселого крашения яиц, ни всенощной с утомительными двенадцатью евангелиями, ни плащаницы, ни Трифоновны с громадным куличом на брюхе, ни ожидания заутрени – ничего… И такое на меня напало уныние в страстную субботу вечером, что принялась я благим матом разливаться – плакать. Стало мне скучно, что нет праздника. И совестно мне было перед Левочкой, а делать нечего».
Я сочувствовала ей, понимая, чего она была лишена.
Уцелело письмо матери, где она писала о нашем отъезде в Петербург. Срок отъезда приблизился, и меня волновало молчание родителей. Вот что писала мать Соне 3–6 мая 1863 г.
«…Таню я отпустила в Питер с папашей, который поехал хлопотать, чтобы Сашу произвели в офицеры нынешний год, а то до 18 лет не выпускают, а ему еще 4 месяца до 18.
Тане сказали накануне отъезда, что ее берут. Она начала прыгать, кувыркаться и объявлять пошла всему дому, – чуть что не к коменданту побежала, а при прощаньи стала реветь и хохотать все вместе.
Мы без них в среду переезжаем на дачу. Пора – так жарко стало.
Бабушка Мария Ивановна у нас. Она тебе кланяется. Она связала тебе два свивальника, а Анеточка и Лиза Зенгер 8 пар башмачков…
Таню и Петю я пришлю к вам в конце мая или в первых числах июня.
Прощай, целую вас обоих. Кланяйся доброй тетеньке и Наталье Петровне.
Л. Берс».В нашей комнате царит беспорядок. Всюду разложено белье и платья. Лиза с Федорой укладывают вещи, по моей просьбе. Мама сидит на диване и читает мне нотации: «Если ты будешь вести себя, как дома, бегать, скакать, визжать и отвечать по-русски, когда с тобой говорят по-французски, то, конечно, старая тетушка – Екатерина Николаевна Шостак и друг ее, графиня Александра Андреевна Толстая, не похвалят тебя. Да и тетя Julie, жена брата Владимира, осудит тебя. Ты должна быть очень осторожна. Кузминский живет у них – веди себя с ним, как следует».
– Мама, – сказала я обиженно, – зачем вы мне говорите все это? Точно я маленькая и не умею держать себя в обществе.
– Конечно, не умеешь. Намедни, при гостях, какую-то глупость сказала.
– А какую? – спросила я.
– Да вот про меня, что я часто велю сказать, что меня дома нет, а я дома.
– Да ведь это правда. И что же тут обидного?
– А намедни, при первом знакомстве с Дьяковым, на шкаф влезла и вся в пыли вышла к нему.
Я задумалась. Может быть, мама и трава, но ведь это так скучно и трудно быть такой, какой она хочет.

