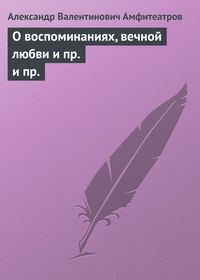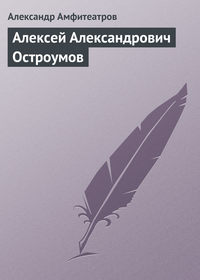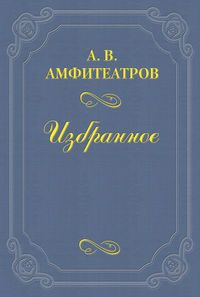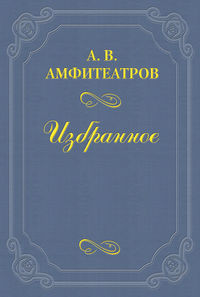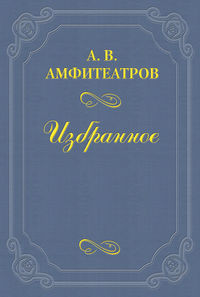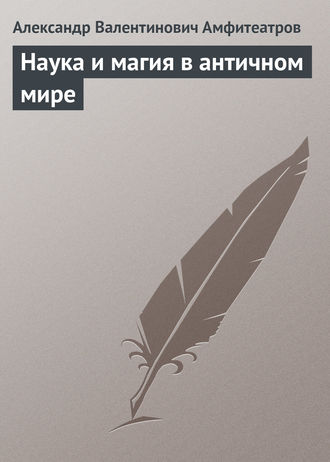 полная версия
полная версияНаука и магия в античном мире
Эта постыдная готовность к подчинению и к совершению дел мерзких, отнюдь не соответствующих достоинству какого бы то ни было божества, смущала нравственных людей язычества и заставляла их религиозную философию усердно заниматься возможностями, если не извиняющими, то смягчающими божеское безразличие к услугам добра и зла. Сложилась теория, что человек, собственно говоря, никогда не может получить непосредственных сношений с величием самого божества, слишком безмерным, чтобы ум смертный мог его постичь, вместить, а тем паче осилить. Покорные исполнители молитв и заклинаний – не боги, но посредствующие между ними и людьми демоны, принявшие псевдонимы богов, – подобно тому, как вольноотпущенники в римском государстве принимали фамилии своих господ. «Неприлично, – учит Апулей, – тому, кто облечён господством, брать на себя обязанность слуги»… По мнению Плутарха, отчасти разделённому впоследствии христианскою апологетикою, «каждый демон привязан к какому-нибудь богу и, так как получает от него свою силу, то и любит называться его именем». В житии св. Мартина Турского подробно описывается, как угодник вёл духовную борьбу с этими демонами – псевдонимами богов. Больше всех, надоедал святому своими шалостями Меркурий; что касается Юпитера, о нём святой говорил с презрением, находя его скотоподобным и тупоумным. Св. Мартин Турский так привык видеть своих олимпийских врагов, что мог даже различать их по голосам: свойство, в котором соперничал с ним император Юлиан Отступник.
Вера в демонов проникла в классический мир из ассиро-вавилонской религии; здесь она составляла существенный догмат, тесно связанная с поклонением светилам небесным, комментирующая догму его и, обратно, в ней находящая объяснения и комментарии для самой себя. Трудно найти более совершенный пример соответствия в одном и том же культе понятий звездопоклонничества, демонизма и литолатрии, чем в семи камнях, в которых халдеи поклонялись семи великим ангелам, а в семи ангелах – семи главным планетам небесным. Иудейство, напитавшееся восточною ангелологиею на Евфрате, в пленении вавилонском, принесло её со временем во вторую столицу своего народа, в богатую и учёную Александрию, этот восточный Париж античного мира. Эклектизм александрийской философской школы сблизил мировоззрения Эллинское и Иудейское: родился Филон, заговорили неопифагорейцы, потом неоплатоники. Неоплатоническая реформа, в лицах Аммония Саккаса, Плотина, Амелия, Порфирия, Ямблиха, энергично проводила в общественное сознание, обрабатывала и комментировала демоническую теорию, как средство примирить существенные противоречия старой, отжившей своё время, олимпийской семьи с религиозными требованиями и взглядами новых философских школ и воспитанного ими века. Религия – путь к Богу, как к нравственному совершенству; религия – кодекс и осуществление добродетели; Бог – источник и идеал её. Между тем, боги Гомера и Гесиода столь преступны и развратны, что, какими стихийными аллегориями и философскими абстракциями ни изъясняй их поведение, уже одно наименование их деяний наглядно противополагает их идее всесовершенного существа, каким воображают себе Бога разум и чувства человеческие. «Какое отношение имеет Европа и Тавр, и Цикн и Леда к земле и воздуху, – так, чтобы нечестивая связь с ними Зевса была единением земли и воздуха?» – восклицает Афинагор Афинянин, сохраняя к феогонии натуро-философской то же презрение, что и к феогонии поэтической. Создав новую идейную мифологию «мировых душ» для философов, вроде Юлиана Отступника, неоплатонизм не желал, однако, упустить из-под своего влияния и общую массу народную; он сохранил «мировым душам» имена Зевса, Афродиты и т. п., из века чтимые эллино-римским миром; своё новое вино он подносил в мехах старых. Но они не могли выдержать молодого и сильного вина: поэзия была, действительно, слишком загрязнена, чтобы настойчивый целомудренный дух идеалистической философии, как науки и практики искания добродетели, философии от корня Пифагорова, Платонова, Филонова, мог в нею даже ужиться, не только действовать заодно. Некоторое время, однако, религия поэтических суеверий и религия философов пытаются идти рядом, совместно обязавшись целым сонмом взаимных компромиссов. Таким периодом, например, характерно рисуется нам пресловутое восстановление язычества в царствование Юлиана Отступника. Чем же, в столь противоестественных условиях существования, мог извинить неоплатонизм, с своей точки зрения, – как философская, да ещё такая чистоплотная в нравственном отношении, почти аскетическая секта, – безобразные мифы о богах и бесстыдства культа иных из них? Не в силах найти достойного ответа на эту безжалостную задачу, неоплатонический катехизатор счёл лучшим способом разделаться с нею, свалив всю вину на того же злополучного, на кого и в наши дни валят всякую трудно разрешимую напраслину: на чёрта. Правда, нашего «чёрта», собственно, ещё не было на свете; он родился позже: в романтическом мраке средневекового замка, под угрюмыми сводами католического монастыря, в лаборатории алхимика. Зато были под рукою ассиро-вавилонские демоны, кстати, принявшие эллинизацию в Александрийской школе. Вот – существа, средние между богами и людьми, соединяющие свойства тех и других, способные быть возвышенными, как боги, и низменными, как самый грешный человек. И живут они не где-то в отвлечённых, непостижимых сферах небесных, но весьма определённо витают между небом и землёю, принимая деятельное участие в быту и в судьбах человечества. Так как демоны одинаково способны к добру и злу, то неоплатонизм, в Эннеадах Плотина-Порфирия, решил, что безнравственные обряды и мифы – дело тех демонов, которые специализировались во зле. Коварные и властолюбивые, они исказили святую первобытную богооткровенную религию, чтобы лишить человечество общения с разумным началом мира, с божественным источником всего существующего. Как мы видим, в этой точке неоплатонизм соприкасается с современною ему христианскою философией до совершенного тождества гипотез.
Вообще, неоплатонизму до слияния с христианством оставался один шаг. Но шаг этот был – через привычку к практическому многобожию, – вернее сказать: к пантеистическому дроблению божества в природе, абстракта в явлении, – с которою расстаться неоплатоникам не хватило силы, если не мысли, то воли. Гений вёл их к свету, но бросил на полдороге в сумерках, полных нерешительности. Тот же Порфирий – заклятый враг христианства и автор ярких полемических против него сочинений – уже допускал, однако, божественность Христа. Через платонизм пришли к Христу такие люди, как Иустин Философ, Татиан, Климент, Феофил Антиохийский, Григорий Чудотворец и др. И, наоборот, Аммоний Саккас, неудовлетворённый христианством, ушёл из него в платонизм, чтобы, сложив элементы старой эллинской философии и новой иудейской веры, вылепить из них свою религиозную систему – именно ту, о которой идёт речь и которую принято называть «неоплатоническою».
4
Демон есть «сияние вещества», таинственное пламя материи. Процесс бытия его – горение. Огонь, который освещает на наших оперных сценах появления Бертрама, Мефистофеля, Демона, сверкал ещё в стражах-мучителях Платонова ада. Лже-Енох, описывая место заточения ангелов, преступивших волю Божию и павших с дочерьми человеческими, говорит: «Там были фигуры, пылающие, как огонь, и, когда они хотели, то казались людьми». «Там были семь звёзд, как великие горящие горы и как духи, которые просили меня». Вера в пламенное начало демонов идёт с Востока и стара, как мир. В самых древних философских системах огонь рассматривается, как сила, очищающая материю, сообщая ей святость и духовность. Ученик восточных мудрецов, быть может, жрецов Зороастра, абдерит Демокрит, желая соединить в учении своём о субстанции души понятия её материальности и, в то же время, превосходства над всем материальным, представил душу сотканною из тончайших и чистейших, круглых атомов огня. Всё духовно-могучее, по всем мифологиям, есть в то же время и огненное. Ни одна религия не воображает себе явлений вышнего духа иначе, как огненными: эллинская легенда рассказывает о Семеле, погибшей от несносно страшного зрелища пламенного Зевеса; иудаизм облекает Бога Вышнего в красоту Неопалимой Купины и столпа, путеводительствовавшего евреями в пустыне; в христианстве Святой Дух огненными языками нисшёл на апостолов. В культах дуалистических, а также и в христианстве, где божественное благо и дьявольское зло живут в постоянном между собою борении за природу и человека, пламенные образы свойственны равно обоим началам – с разницею лишь в характере огня и света, их сопровождающих. Сладостное сияние небесного света, подобного солнечному, – необходимая подробность явления ангелов, святых, добрых гениев, кротких фей; грозное сияние вещества, зарево пожара материи, сопровождает чертей, колдунов, злые привидения. Это искони знали и описывали языческие поэты, христианские художники и мистериографы, а теперь практикуют театральные декораторы. Средневековая схоластика, разбирая вопрос о физике ада, очень интересовалась противоречием, которое вносила в его идею, обещанная ему, «тьма кромешная». Допуская, что в аду будет темно, приходилось отказаться от «неугасимого огня», также обещанного аду и составляющего самую существенную и деятельную его принадлежность. Где есть огонь, там есть свет, а, где есть свет, там не может быть тьмы. Глубокомысленная загадка была решена в том смысле, что адский огонь будет «мрачный» – не дающий света и тем паче мучительный. Вопрос решался, очевидно, до изобретения духовых печей, которые, в миниатюре, совершенно отвечают обоим адским требованиям.
Добрые демоны играют в неоплатонизме роль посредников между человеком и божеством, весьма схожую с тем значением, какое христианство признаёт за своими святыми и ангелами. Слово «ангел» даже и принято было неоплатониками для обозначения доброго духа. Одни из благих демонов возносят богам человеческие молитвы, дары, жертвы, а людям, обратно, доставляют божественные откровения; другие становятся патронами городских общин, сословий, цехов, отдельных лиц, покровительствуют тому или другому искусству, науке, заведуют кто плодами, кто погодою, кто скотом, кто путешествиями и т. п. Александрийское взаимовлияние эллино-римской мудрости и иудейской теологии, Платона и Филона, таким образом, обозначилось в демоническом догмате с полною силою. Учение об ангелах, как духовных личностях, было чуждо Пятикнижию: слово, переводимое по-гречески «ангел», в Пятикнижии обозначает ещё не лицо, а действие – проявление Божества. Но, со времени плена вавилонского, учение это стало очень могучим в иудаизме. Были секты, поклонявшиеся ангелам, что осуждалось, как заблуждение к многобожию. Предостережения против ангельского культа должен был делать новообращённой пастве своей и апостол Павел. «По воззрениям того времени, – говорит Ренан, – наполовину каббалистическим, наполовину гностическим, каждая личность, даже каждое нравственное явление, как смерть, болезнь, скорбь, имели своего гения или ангела хранителя: был ангел Персии, ангел Греции, ангел вод, ангел огня, ангел бездны; по талмудическому верованию, ни один народ не подвергается казни Божией без того, чтобы, прежде, не был наказан его ангел-хранитель». Апокалипсис Иоанна отражает это верование в своих ангелах церквей: «И ангелу Сардийской церкви напиши». «И ангелу Лаодикийской церкви напиши». Слова эти с удовольствием повторяет в своём трактате «О началах» великий христианский учитель Ориген: гениальный мыслитель, в котором святой странно граничит с еретиком. Старая закваска неоплатонизма часто пробивалась в этом христианском слушателе Аммония Саккаса сквозь оболочку его правоверия, и не даром считали нужным поднимать против него оружие обличительного слова такие пылкие и прямо направленные умы, как, напр., бл. Иероним. Из трактата Оригенова мы узнаём, что ангелы даны не только церквам, но один получил назначение быть ангелом Петра, другой – ангелом Павла; затем каждому из малых, принадлежащих к церкви, дан ангел, – и эти ангелы всегда видят лицо Божие; есть также ангел, ополчающийся окрест боящихся Бога. Все эти рассуждения приняты церковью в прелестный, трогательный догмат об ангеле-хранителе. Но Ориген настаивал и на единстве природы ангелических существ, как святых, так и отверженных, он учил, что между ангелом и дьяволом разница не в естестве, но в воле, и любвеобильно открывал дьяволу возможность и способность к покаянию, спасенью и блаженству. Этих последних мудрствований Оригену, как известно, не простили. В названном же Оригеновом трактате встречаются намёки на распределение ангелов-покровителей по специальностям: Рафаил ведает дело лечения и врачевания, Гавриил наблюдает за войнами, Михаил – посредник молитв и прошений, возносимых смертными. Было бы долго выяснять связь небесного патронажа, к тому же весьма неустойчивого в назначении имён и занятий, с параллельными убеждениями талмудистов и мифами восточных культов, – да и излишне: подобные сближения были делаемы десятки раз. Мне хотелось только подчеркнуть, как трудно было даже христианской догме расстаться с популярным принципом демонической однородности и, следовательно, до известной степени, божественности всех могучих воздушных существ. Правда, что ей в учении этом оставило опасное наследство опять таки предание иудейское. Сатана книги Иова, Асмодей книги Товита равны с добрыми ангелами по праву и по силе, разница лишь в злом направлении их деятельности и в антипатии к ним Божества. Всего ярче эта нераздельность в мире духов силы доброй и силы злой, при полной их равноправности, сказывается в знаменитом эпизоде третьей книги «Царств», в видении пророка Михея. «Я видел Господа, сидящего на престоле Своём, и всё воинство небесное стояло при Нём, по правую и по левую руку Его; и сказал Господь: кто склонил бы Ахава, чтоб он пошёл и пал в Рамофе Галаадском? и один говорил так, другой говорил иначе; и выступил один дух, стал пред лицом Господа и сказал: я склоню его. И сказал ему Господь: чем? Он сказал: я выйду и сделаюсь духом лживым в устах всех пророков его. Господь сказал: ты склонишь его и выполнишь это; пойди и сделай так». В энергичном отрывке этом лживый дух – даже ещё не враг и не противник Божий. Он такой же верный и послушный слуга Вышнего, как и все духи, хотя и употребляемый для злой послуги. Древнейшая иудейская ангелология не имела самостоятельного учения о дьяволе, как о князе вещества, как о втором, низшем боге материи, враждующей с Творцом своим и присными ему силами: представления сатанического типа развились в ней под влиянием дуалистических воззрений, принесённых с Евфрата иудеями, поворотниками из Вавилонского плена, и самарийскими поселенцами, маздеистами. Духи национального иудейского верования – Ангел-Обличитель, читающий список грехов человеческих пред Господом, и Ангел-Истребитель, карающий за грехи по воле Господа, мало-помалу, под веянием сказанных воззрений, утратили свой исконный служебный характер и приобрели самостоятельное значение врагов, обидчиков человечества, а затем, чрез вражду к человечеству, и врагов доброго начала, противников Божества и соперников его во власти над миром. Монотеизм иудейский не препятствовал избранному народу чтить свирепую силу Азазела, демона знойных пустынь, где изнывали когда-то в тяжком переселенческом странствии таборы Моисея и Иисуса Навина. Известный «козёл отпущения» жертвовался этому демону многие века, и если синагога постаралась дать обряду иное, более приличное, символическое толкование, то народ-то не позабыл старого палящего беса. Настолько не забыл, что даже в средневековую демонологию Азазел перешёл, изображаемый эмблематически голым дикарём, который тащит за рога, доставшегося ему, жертвенного козла. Лже-Енох, чрезвычайно подробный в классификации обязанностей духов добрых и пристрастий духов злых, очень хорошо знаком с этим Азазелом и знает, как он превратился из ангела в беса пустыни. Некогда Азазел был вторым по Семъязе, главе падших ангелов-«стражей», «которые сошли с неба на землю и открыли сынам человеческим то, что было сокрыто». Азазел научил людей «делать мечи, и ножи, и щиты, и панцири, и научил их видеть, что было позади их, и научил их искусствам, – запястьям, и предметам украшений, и употреблению белил и румян, и украшению бровей, и употреблению драгоценнейших и превосходнейших каменьев, и всяких цветных материй и металлов земли». Хотя павшие товарищи Азазела научили людей многим не менее опасным знаниям, но, по Еноху, гнев небесный разразился над этим нарядным бесом скорее и резче, чем над другими. Готовясь исправить землю всемирным потопом, Господь повелевает ангелу Руфаилу: «Свяжи Азазела по рукам и ногам, и положи его во мрак; сделай отверстие в пустыне, которая находится в Дудаеле, и опусти его туда. И положи на него грубый и острый камень, и покрой его мраком, чтобы он оставался там навсегда, и закрой ему лицо, чтобы он не смотрел на свет». Перепись отверженных ангелов с обозначением их специальностей, встречается у Еноха дважды. Интереснейший из всех – Пенемуэ: «Этот показал сынам человеческим горькое и сладкое, и показал им все тайны их мудрости. Он научил людей письму чернилами и употреблению бумаги, и чрез это многие согрешили от века и до века и до сего дня. Ибо люди сотворены не для того, чтобы они таким образом тростью и чернилами закрепляли своё слово». Итак, горемычный дух грамотности имел на себя гонение, можно сказать уже предвечно, и – едва ли не по той же самой логике, что и сейчас, едва ли не по тем же причинам.
Римской религиозной системе, с её отвлечённым дроблением идеи божественного действия на тысячи стихийных, житейских, государственных и этических гениев-покровителей, и с терпимым допущением ещё широчайшего дробления антропоморфических верований народных, оставалось лишь столковаться относительно родового имени воздушных сил, чтобы воспринять восточное учение о демонах и ангелах и мало-помалу передать им, в строгом распределении имён и дела, все функции и прилагательные по ним прозвища своих старых богов. Если вспомнить персонал римского пантеона, хотя бы по укоризненному реестру бл. Августина: Клоапину, богиню сточных труб, Волюпию, покровительницу чувственного удовольствия, Купину, богиню колыбелей, Рузину, богиню пашни и т. д., то уже мелкая специализация их обязанностей в мировой машине должна была подсказывать римлянину, – в особенности, знакомому с этрусским и с восточными культами, с монистическою и демоническою теологией, – что богам этим место отнюдь не на небесах, а где-то тут же, близ человека, под рукою у нуждающихся в их помощи, в атмосфере земли «между землёю и луною», в разряде демонов. Сеия была богинею семян, пока они в земле и не взошли ещё, Сегезия – богиня тех же семян, пустивших ростки, а Тутилина – покровительница их же, собранных в амбары. Были особые боги для каждого фазиса женской беременности, для каждой физиологической функции. Вор, проститутка, барышник, ростовщик – все становятся под охрану специального бога. «Наша страна, – говорит Петроний, – до того населена богами, что встретить бога куда легче, чем человека». Как бы в подтверждение, Апулей, представитель демонической теософии платоников, уверяет, что пифагорейцы очень удивлялись, когда кто-либо говорил им, что никогда не встречал демонов. По Плинию, «народ бессмертных превышает число людей». Варрон пространно исчисляет специально римских богов, управляющих человеческими судьбами, начиная с Януса, открывающего нам двери жизни, и кончая Ненией, поющей на наших похоронах. На один свадебный обряд приходится смена из девяти покровителей.
Им молились в язычестве, по расписанию, совершенно с таким же крепким убеждением, с каким русский мужик молится о здоровье скота не какому-либо другому святому, но непременно св. Власию, перенося на него, по созвучию имён, миссию древле-славянского Велеса, о конях – свв. Фролу и Лавру, об исцелении блудные страсти – св. Моисею Угрину, о снятии запоя – св. Вонифатию, ибо он понимается, как «Винохват» и т. д. В крепостные времена Плюшкины и Коробочки с не меньшею верою служили молебны и ставили свечи св. Иоанну Воину – о поимании бежавшего раба. Явления, в которых сказывается посредствующая роль демонического, но доброго начала, по изложению Плотина, весьма многообразны, но, в числе прочих, особенно выразительными признаёт он те, что избирают органами своего действия именно статуи богов. В природе, говорит Плотин, существует закон симпатии, по которому всё родственное имеет взаимное влечение. Поэтому статуя, сделанная сообразно с представлением о божестве, по необходимому закону симпатии, привлекает в себя божественную силу, – вот что и создаёт её святость. Теория Плотина, повторяющая и распространённо поясняющая магическую Трисмегистову формулу происхождения идолов чрез демоническое откровение типа богов, была усвоена христианством тем легче, что наилучшие и наивлиятельнейшие писатели новой церкви, во втором и третьем её веках, были учениками и товарищами платоников. «Ваши боги, – укоряет Иустин Философ, – имеют имена и виды злых демонов, которые являлись людям». Любопытна живучесть этой античной гипотезы. Она имеет сочувственников даже в почти современной нам мифологической литературе прошлого века. Курьёзная книжка некоего Albert Duruy de Bruignac, вышедшая в 1864 г. в Париже, под заглавием «Satan et la magie de nos jours», даёт богатейший свод подобных мнений, тем более любопытный, что сам Дюрюи де-Брюиньяк – искреннейший демономан: он даже средневековые процессы колдунов и ведьм считает делом справедливым, законным и душеспасительным. Заимствую несколько указаний из его любопытной коллекции. Крейпер и Дёллингер заявляют самым решительным образом, первый об идолах, второй об их культе, что никогда бы не дойти человеку до такой премудрости, если бы боги не дали ему намёка на свои формы и на свои вкусы, как кого ублажать. Боги воплощаются в эмблемы, ими самими избранные, им самим угодные. Отсюда необъяснимые странности многих изображений, обрядов, жертв: демонические капризы и симпатии заставляют людей выражать своё богопочитание в специальных для каждого божества формах и веществах, совсем необычных в человеческом обиходе: один требует в жертву себе ворону, другой прилетает на запах львиной или волчьей печени, третий желает, чтобы, молясь ему, люди ранили своё тело и проливали слёзы, четвёртый, чтобы, наоборот, все веселились, смеялись и проделывали всяческие шутки и дурачества. Сюда же надо отнести, согласно намёку Гермеса Трисмегиста, египетское поклонение священным животным – символический культ, над которым, по словам Филона, издевался каждый новоприезжий в Египет европеец, но не проходило и года, как насмешник приучался вполне сознательно и очень серьёзно воздавать должное почтение собакоголовым и быкоподобным чудовищам мифологии древней страны пирамид. В числе иностранцев, покорённых египетскими чудищами-богами, были такие крупные умом и талантом люди, как триумвир Марк Антоний, Германик, Веспасиан. Чтобы разобраться в мире чудес, – советует Крейпер, – необходимо сделать шаг назад, к древней доктрине гениев: без неё нет возможности поднять завесу с таинства. В восемнадцатом веке неверующий Буланже, при всём своём скептицизме, проговаривался, что допускает демоническое откровение и участие в идольском служении. По крайней мере, он нашёл возможным серьёзно считаться с легендою о ежегодном возмущении вод кумиром гиерапольского храма. «Может быть, – гадательно предполагает он, – и в самом деле бывало там какое-нибудь чувственное проявление божественной силы, подобно тому, как свершалось оно в тот же самый день, в Святая Святых Иерусалимского храма»…
Сообразно с природою и деятельностью своею, одни из демонов – ласковые и красивые на вид, другие безобразны, злобно уродливы. Порфирий показывал ученикам своим Эрота и Антиэрота в виде двух прелестнейших детей. В Филостратовом романе об Аполлонии Тианском, этот пророк предсказывает эфесянам чуму, если они не улучшат своих нравов. Эфесяне остались глухи к проповеди мудреца, и он удалился в Смирну. Когда в Эфесе, действительно, началась чума, жители умолили фауматурга вернуться в заражённый город. Встреченный толпами благодарных эфесян, Аполлоний внезапно потребовал, чтобы один из народа – старик-нищий, бледный, безобразный, с гноящимися глазами, в лохмотьях, с сумою, – был побит камнями, как «враг богов». Повеление всесильного чудотворца было исполнено беспрекословно; нищего погребли заживо под грудою камней, а, когда. по приказу Аполлония же, её разрыли, то, вместо нищего, нашли труп огромной собаки, с пастью, ещё полною пены. То был демон чумы. Зараза в Эфесе прекратилась. Тут мы присутствуем при явлении, обратном выходу Мефистофеля в «Фаусте» Гёте. У последнего «пудель разрешился демоном», у Аполлония Тианского демон разрешился пуделем. Кстати, об этой сцене. Если вспомнить, что, по учению неоплатоников и христианских теологов-апологетов, главная специальность злых демонов – искажать правое вероучение, содействовать введению ложных религий, ересей, сект, порче священных обрядов и преданий, – нельзя не подивиться остроумию и прозорливости, с какими Гёте заставляет Мефистофеля сойтись с Фаустом как раз в ту минуту, когда последний пытается изменить, по своему разуму, первый стих Евангелия от Иоанна: «В начале бе Слово, и Слово бе к Богу, и Бог бе Слово».